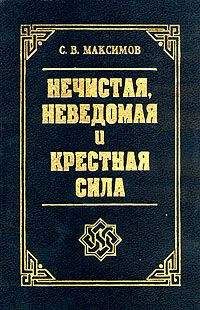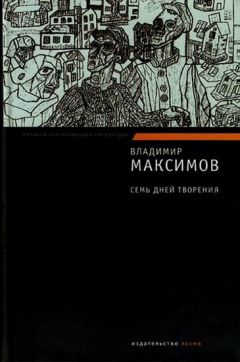Сергей Максимов - Сибирь и каторга. Часть первая
Тяжелые, гнетущие сердце мысли не покидают нас и в уютной, теплой квартире, до самого утра, до рассвета. Пойдем же смотреть, что день укажет. Вот мы и на улице.
Направо и налево сильно подержанные, покривившиеся утлые хаты; они идут в порядке, из порядков образуется улица одна, другая, пятая. Перед нами целое селение, которое только тем и отличается от шилкинских и других, что оно бедное, совсем не подновляемое. Некоторые дома, как мазанки, грязноваты снаружи, заборы полуобрушенные. Видно, что голь и бедность строились тут; видно, она же и теперь тут живет. Но селение это, как известно, казенное: вот неизменный хлебный и соляной амбар, с неизбежным часовым, товарищи которого, а может быть, и сам он — кричали так усиленно и настойчиво громко целую прошлую ночь. Но где же тюрьма, частокол, острог — жилище главных хозяев селения? Смотрю кругом — и не вижу. Вижу опрятнее других чистенький домик — вероятно, начальника промысла, пристава; вижу другой, почти такой же, может быть, смотрителя тюремного. Но где же тюрьма, когда кругом обыкновенные обывательские дома, свободные от часовых и караула?
— Вон и тюрьма! — говорят мне, указывая на один из домов, наружною постройкою похожий на обыкновенные деревянные сибирские казармы. Дом и я принял за казарму, не разглядев только в окнах ее железных решеток, отсутствие которых в другом соседнем доме характеризовало настоящую, действительную казарму. Близость тюрьмы объяснилась отчасти соседством гауптвахты, несколькими физиономиями в папахах, принадлежащих сибирским казакам.
Но кто же эти люди, которые идут мне навстречу? Люди эти без кандалов, стало быть, не тюремные сидельцы, а, по всему вероятию, выслужившие свой срок ссыльнокаторжные. Вежливо предупреждают они поклон наш, снимая шапки и кланяясь. А вот и сами преступники, побрякивая кандалами, творят свое домашнее дело: сопровождаемые часовым, несут они вдвоем на палке ушат, накрытый тряпками. Из ушата этого валит пар и щекочет обоняние знакомым запахом национального «горячего», известного в казармах под названием купоросных щей. И эти преступники вежливо снимают пред нами шапку: смешно нам за вчерашние грезы и страхи, и готовы мы оправдаться только тем, что свет дневной всякие страхи гонит.
— Хотите вы видеть каторжного, вот вам первый из них! — говорит мне пристав промысла, обязательно вызвавшийся познакомить меня со всею подробностью своей службы.
— Иванушка, поди-ка сюда! — кричал он встречному.
Из ворот соседнего дома вышел человек в рваной шапчонке, с всклоченной реденькой бороденкой. Шея его была голая, армячишко совсем слез с плеч и даже рубаха у него была рваная. На ноги этого человека я уже и решимости не имел посмотреть. Иванушку всего подергивало: голова не твердо держалась на плечах, он то приклонит ее к правому плечу, то быстро отдернет к левому. Левое плечо ходуном ходит и самого Иванушку как будто всего ведут судороги, как будто чувствует он, что все его конечности не на своих местах, и он употребляет теперь все усилия, чтобы вправить их кости в чашки, в надлежащие и пристойные места. Видно, тяжело Иванушке носить свою головушку, да и с остальным телом мудрено ему ладить. По-видимому, он тяготится этою работой; на дворе слишком тридцать градусов мороза, а у него оба плеча буквально голые.
— Работа каторжная так его изуродовала? В серебряных фабриках наглотался он ртутных паров и качает теперь головой? Принял что-нибудь такого внутрь, по совету доброхота-злодея, чтобы умягчить для себя ядовитую болезнь или тяжесть каторги, и тем записать себя в разряд неспособных?
- Ни то, ни другое, ни третье, — отвечают нам. — Иванушку сюда именно таким и прислали, готовым.
Иванушка был перед нами.
— Где ты был? — ласково спрашивал его пристав.
— Снежку отгребал, покормили за то! — отвечал Иванушка и брызгал; голова как будто еще сильнее заходила на плечах, левое плечо так и приподнял он до самых ушей.
— А кто ты такой? — продолжал расспрашивать пристав.
— Я… Божий человек! — гнусливо растянул старичок.
— Как прозываешься-то?
— Поселенцом велят зваться.
— Откуда ты родом?
— С Вятки родом.
— За что прислан-то сюда?
— Я и сам не знаю. Мне бы уж домой идти надо. На родину пора… Там у меня тятька с маткой остались.
— Да ведь уже нельзя тебе возвращаться-то…
— Можно, говорят вон там. Иванушка указал рукою на тюрьму.
— Надо, слышь, только бумагу этакую достать. Без бумаги-де не пропустят и назад вернут. Дай ты мне такую бумагу, чтобы мне в Рассею уйти, сколько прошу!! (и в последних словах послышался упрек).
— Всякий раз обращается он ко мне с этою просьбою! — объяснил мне пристав потом, когда мы оставили Иванушку.
Вот что мы слышали потом об Иванушке. В статейных списках (которые сопровождают всякого ссыльного, как паспорт и аттестат) он показан приговоренным в ссылку за скотоложство. Сам он рассказывает, что прислан сюда за раскол; знающие люди уверяли, что раскол усугубил только степень наказания. Но дело станет понятным и ясным, если представить себе, что Иванушка родился божеником (и не только к какой-нибудь умственной, догматической работе, но и ни к какой валовой домашней был неспособен) и попал за то в пастухи. Обездоленный идиотизмом (не помешавшим, однако, развиться в нем грубым, извращенным животным инстинктам), он в скотском стаде впал в тот грех, который увел его в самое дальнее место поселения. Ближние судьи судили в нем отвлеченную идею, дальние вершители не видали в глаза подсудимого. Приговор был подписан и, вот, приведен в исполнение. Над Иванушкою в тюрьме смеются, посмешищем он был и во всю дорогу по этапам. Все его любят, все его учат, кто чему может, и хорошему и худому. Ходит он по чужим дворам просить милостыню. Об одежде он не заботится; оденут другие, он полагает, что это так и следует, и спасибо не скажет. На Каре Иванушка человек неспособный и совсем лишний.
— Дай мне такую бумагу, чтобы мне в Рассею можно уйти! — просил он меня, придя ко мне на квартиру.
— Дал бы я тебе такую бумагу, да дать не могу.
— А мне в тюрьме сказали, что можешь.
— Дал бы я тебе, Иванушка, такую бумагу, которая бы тебя в богадельню увела и там оставила, да не в силах я.
— В богадельню бы мне хорошо.
— Хорошо, Иванушка, так хорошо, что там тебе только и место! Лечить бы тебя — вылечили. Здоровый бы вышел, девку бы полюбил, полюбил бы ты девку, женился бы на ней.
— Нету! Я девок смерть не люблю, в девках-то черти-дьяволы сидят.
Иванушка мой заплевался, разворчался, сердит стал не в меру. Самые судороги его пошли приметно учащеннее и озлобленнее. Иванушка был просто идиот, и притом, по свойству многих больных болезнями нервными, имел одно больное место (антипатию), прикосновение к которому вызывало ожесточенные припадки. Иванушка, по общим сказам, не любил два-три слова и, смирный вообще, при напоминании слов этих выходил из себя, бросал чем ни попало в равных себе и знакомых и бегал от неровней и от незнакомых, как это он сделал и со мною. Сделались ли слова эти ненавистными больному с самого того времени, когда он уразумел практический смысл их, или опротивели они ему до омерзения от частого напоминания в насмешках досужих и праздных товарищей — решить теперь трудно. Иванушка, во всяком случае, был верен антипатии к словам ненавистным и во все время на каторге не изменил себе ни одного раза. Бесконечно жалко Иванушку, который, вместо богадельни, попал на каторгу, и страшно за него, когда знаешь, что в соседстве с ним живут люди настоящие каторжные. Не прилипнет к нему злодейская грязь по причине крайней неподатливости его почвы, но и не вылечат его здесь от болезни, для которой в медицине нашлись бы кое-какие облегчающие снадобья.[25]
— А вот и другой экземпляр ссыльнокаторжного! — говорил мне карийский пристав, указывая на высокого старика, седого как лунь, тщательно выбритого и чистенько одетого. Старик приковал мое внимание необыкновенно правильными чертами лица; в глазах его еще было много жизни, а во всех чертах лица много мягкости и ничего злодейского ни во взгляде, ни в улыбке; даже и верхняя челюсть не была развита в ущерб остальным частям лица. Глядел он бодро, честно и открыто; шел смело и уверенно. Сложен он был превосходно и даже той сутулости, которая характеризует всякого ссыльного, битого кнутом, и даже той запутанности, которая заставляет прятать взор куда-нибудь в сторону и в угол, мы в нем не заметили. Наконец, той робости, которая велит скидывать шапку пред всяким встречным (что так любят и привыкли делать все, просидевшие долгое время в каторжной тюрьме), в старике нашем также заметно не было. Внешний вид расположил меня в его пользу, и я готов был усомниться в подлинности и вероятии рекомендации пристава, но последний настаивал на своем: