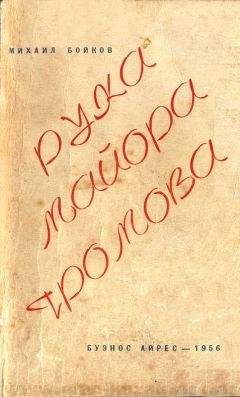Михаил Бойков - ЛЮДИ СОВЕТСКОЙ ТЮРЬМЫ
"Если я сбегу, они арестуют мою семью. Будут держать заложниками… допрашивать… пытать…"
Револьвер в моей руке бессильно опускается. С трудом преодолевая соблазн бегства, я говорю вполголоса:
— Гражданин следователь…
Он спит попрежнему, только его храп постепенно стихает.
— Островерхов! — говорю я громче.
Он вскидывает голову от стола, уронив на его стекло пенсне и спросонья трет глаза кулаками. Затем ленивым жестом прилаживает пенсне на переносье и вдруг замечает револьвер в моей руке. Слабый румянец сна сходит с его желтого лица и оно становится бледно-серым; в глазах-сливах появляется выражение ужаса.
— Что вы… что вы! — бессвязно вскрикивает Островерхов.
Совершенно неожиданно для меня он сползает с кресла, падает на колени и, умоляюще протягивая ко мне руки, хрипло бормочет:
— Михаил Матвеевич!.. Не надо… не убивайте… Я сделаю для вас все, что хотите… Дорогой мой… родненький…
Следователь на коленях ползет ко мне. Его глаза полны ужаса и слез. Из-под квадратов пенснэ две крупные капли скатываются на жирный посеревший подбородок.
Этот толстый, трясущийся в плаче мужчина вызывает во мне смешанное чувство отвращения и раздражения. Невольно отшатываюсь назад со словами:
— Убивать вас я и не думал.
И, спохватившись, добавляю:
— Но обещайте освободить меня.
— Д-да. Обязательно. Даю слово коммуниста, — всхлипывает он.
— Возьмите ваш наган.
Не глядя, я швыряю на стол револьвер. Он ударяется об стекло и разбивает его. Звенящие осколки брызгами сыплются на пол.
Островерхов быстрым прыжком вскакивает с колен и, навалившись животом на стол, обеими руками хватает револьвер. Лицо следователя краснеет пятнами, становится желто-багровым и злым. Он шипит от злости и стыда. В его словах и голосе уже нет ни малейшего следа обычной медовости. Срывающееся с его губ шипение перемежается обрывками угроз:
— Н-ну, за все это ты мне заплатиш-ш! И за стекло тож-же, с-сукин с-сын, Я к тебе по-хорошему, а ты на меня с наганом? Все ж-жилы из тебя вымотаю! Я тебе покаж-жу, р-родненький. На конвейер пойдешь!
Он дважды с яростью ударяет кулаком по кнопке звонка на столе. Как бы в ответ раздается двойной заливистый звон колокольчика в коридоре и смолкает. Спустя несколько минут в дверь вбегают двое дюжих энкаведистов: оба с воловьими затылками и с каким-то воловьим выражением тупых обрюзгших лиц. Сукно гимнастерок так плотно обтягивает их широкие плечи и огромные мускулистые руки, что кажется будто оно вот-вот лопнет. У одного из них в руках небольшой длинный чемодан, похожий на скрипичный футляр.
Успокоившийся Островерхое с кривой гримасой кивает в мою сторону головой и коротко бросает вошедшим:
— Взять на конвейер!
Они бросаются ко мне. Я срываюсь с места и отскакиваю назад. Пытаюсь защищаться кулаками, но туши энкаведистов в одну секунду сминают меня, валят на пол и заламывают мои руки за спину. Слышится звонкое металлическое щелканье и запястья моих рук охватывают браслеты. Я лежу скованный лицом вниз.
Гудящий бас одного из энкаведистов доносится до меня сверху:
— С чего начнем, товарищ следователь?
— Попробуйте ножку от стула. А дальше посмотрим, — отвечает ему Островерхов..
— Есть, товарищ, следователь, — гудит бас.
В отчаянии безнадежности я поворачиваюсь на бок и пытаюсь освободиться от наручников. Со стонами и хрипеньем тужусь разорвать соединяющую их короткую цепочку. Конечно, это бесполезная попытка.
Рядом с моей головой стоит чемодан-футляр, и басистый энкаведист роется в нем. Приподняв голову, я вижу там набор деревянных и металлических инструментов разных размеров и причудливых форм. Огромные краснокожие руки энкаведиста вынимают оттуда две ножки, отпиленные от стула.
"Вот оно. Начинается. Большой конвейер", — в страхе подумал я…
Испугаться по-настоящему я не успел. На мою шею, ниже затылка, обрушился такой удар, что в первое мгновение мне показалось, будто мою голову отрубили. Затем удары посыпались один за другим, быстрые и частые.
Теряя сознание, я, как сквозь сон, услышал голос Островерхова:
— Не бейте по голове. Только по шее. Ему еще рано умирать от разрыва сердца… Теперь обработайте ноги… Теперь по животу…
Сколько времени длилось избиение, я не знаю точно. Вероятно не меньше трех суток. Меня били ножками от стульев, толстыми резиновыми трубками, стальным метром и линейками, утыканными гвоздями. От боли я стонал и плакал, кричал и выл.
Очень часто я терял сознание, а когда оно возвращалось ко мне, видел перед собой ползущую по лицу Островерхова улыбку и слышал его ласково-медовый голос:
— Будешь признаваться, родненький? Подпишешь показания, дорогой мой?
Сначала я отвечал: "Нет", "не виновен" и тому подобное. Потом у меня для слов уже нехватало сил и я только отрицательно ворочал головой. И жалел, так жалел об упущенной возможности побега. О семье тогда я перестал думать.
Ночь пыток сменялась таким же днем, а день — опять ночью; сменялись и люди, избивавшие меня. Островерхов уходил три раза на несколько часов и возвращался заспанный. В его присутствии меня били сильней и больнее, но я продолжал упорствовать по-прежнему. Боязнь расстрела, как результата "признаний", пересиливала терзавшую меня боль побоев.
Наконец, наступил такой момент, когда я только вздрагивал от ударов, уже не чувствуя боли. Мое избитое тело утеряло чувствительность к ней.
Затем сильный приступ тошноты потряс меня всего и вызвал обильный холодный пот. Сознание мое провалилось куда-то в пропасть, в небытие.
Глава 5 МЕШОК
Очнулся я в странном, никогда не виданном мною помещении. Такого не увидишь даже в самом скверном сне.
Это был бетонный мешок высотой приблизительно в четыре метра и с площадью пола: метр на полтора. Я лежал на полу, упершись головой в стенку, а подогнутыми ногами — в узкую стальную дверь. Вытянуть ноги я не мог; мой рост превышал длину этого тюремного "жилья" на четверть метра.
Окон здесь не было, но лучи яркого света с потолка заливали камеру. Я взглянул вверх. В потолок была ввинчена большая электрическая лампочка, прикрытая металлической сеткой.
Я снял с себя пиджак, разостлал его на полу и лег. После переполненной камеры "упрямых" и допроса с избиением мне здесь показалось совсем неплохо. Тишина и прохлада бетонных стен окружали меня, успокаивая мои истрепанные на допросе нервы и уменьшая боль в избитом теле.
"Эту комнатушку удлинить бы немного. Тогда, пожалуй, можно в ней и жить", — думал я, лежа на спине и разглядывая электрическую лампочку. Ее яркий свет стал резать мои глаза; я закрыл их и задремал…
Проснулся я от стука в дверь. В ней была открыта, незамеченная мною раньше, дверца с "очком". Оттуда в камеру просунулась рука, держащая миску баланды и кусок хлеба.
— Бери паек! — произнес равнодушный хрипловатый голос.
Я взял еду и выглянул в дверцу, стараясь рассмотреть лицо подавшего мне суп и хлеб. Но в коридоре царил полумрак и, после яркого света камеры, это лицо представилось мне мутно-белым расплывчатым пятном.
Дверца захлопнулась, но круглое "очко" в ней осталось открытым. Надзиратель из коридора наблюдал через окошко, как я ем. Супа было мало, а хлеба не больше трехсот граммов. Я быстро покончил с ними и снова услышал хрипловатый голос:
— Давай миску и ложку обратно!
Я подошел к дверце. На мгновение в ней мелькнуло белое пятно лица моего "кормильца"; его рука выхватила у меня миску с ложкой и дверца закрылась.
Так повторялось через определенные промежутки времени, продолжительность которых я не мог определить. Между двумя "обедами" мне давали литровую кружку воды.
Из мешка меня в уборную не выводили; для этого не было надобности. В углу его находилась дырка с трубкой, ведущей куда-то вниз.
После четвертого по счету кормления я почувствовал, что не наелся и попросил надзирателя:
— Дайте добавку!
— Не полагается, — хрипло отрезал он.
— Сколько раз в сутки вы меня кормите?
— Сколько полагается.
— Который день я здесь сижу?
— Не помню.
Его равнодушный тон и ничего не объясняющие ответы обозлили меня и я крикнул ему:
— Ты человек или бревно?
— Конечно, человек, — спокойно прохрипел он.
— Так почему не ответишь мне по-человечески?
— Нам запрещено отвечать на вопросы заключенных в секретках.
— Значит я в секретке? Почему? Разве я важный государственный преступник?
— Не знаю. Спросишь у следователя. На этом наша малосодержательная беседа закончилась. Спустя еще несколько "обедов" я сказал ему:
— Покажи мне твою физиономию.
— Для чего? — спросил он.
— Хочу поглядеть на моего "кормильца".
— Глядеть на меня нечего. Я не картина, — прохрипел он сердито…