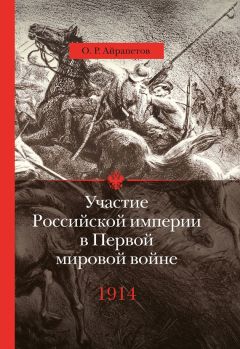Борис Колоницкий - «Трагическая эротика»: Образы императорской семьи в годы Первой мировой войны
Неудивительно, что в дни Февральской революции депутат Государственной думы, член фракции правых независимых священник С.А. Попов (Попов 2-й) с крестом в руках благословлял революционные войска1494.
С другой стороны, невероятные слухи, якобы подтверждавшиеся после переворота многочисленными публикациями, кинофильмами и театральными постановками, делали невозможной реставрацию монархии. Они также провоцировали необычайно враждебное, беспощадное отношение к коронованным «предателям» со стороны лиц консервативных взглядов. Известный математик, член Российской академии наук В.А. Стеклов, записал в свой дневник 10 марта 1917 года: «Постепенно раскрывается мерзостная картина придворной грязи и разврата! <…> Настоящий Рим эпохи вырождения – хуже! Какая масса кровавых злодейств, обмана, провокаторства… и сказать нельзя. Изверги рода человеческого, а не люди. А с ними еще церемонятся! Смертную казнь отменили. Надо бы им объявить, что присуждены к смертной казни через повешение, запереть в Царском Селе и держать в непрерывном ожидании, чтобы довести их до умоисступления! И уже как негодных тварей вздернуть потом! И этой бы казни было мало!» Следует отметить, что почтенный автор этих строк придерживался весьма умеренных, порой консервативных политических взглядов1495.
Вера в подобные слухи повлияла на безразличное отношение значительной части российского общества к несчастьям царской семьи. По свидетельствам современников, даже известие об убийстве царской семьи в Екатеринбурге в 1918 году не вызывало порой возмущения и среди тех людей, которые никак не были сторонниками большевиков (об этом вспоминал впоследствии ректор Московского университета, видный деятель партии кадетов)1496.
Память о слухах повлияла на развитие политического сознания после Февраля. Миф о заговоре «темных сил», немецких агентов и шпионов пытались использовать в антибольшевистской пропаганде. Смакование распутинской темы несло и известную пропагандистскую нагрузку: царь, царица и Распутин были-де главными сторонниками мира с Германией, а поэтому все противники войны, включая левых социалистов, могли быть причислены к «темным силам». В ноябре 1917 года кадеты, например, сравнивали Ленина и Троцкого со Штюрмером и Распутиным1497. Некоторые публикации прямо соединяли антибольшевистскую и антимонархическую пропаганду1498.
Однако слухи об «измене в верхах» порой с большим успехом использовали и левые социалисты в своей антибуржуазной пропаганде. Некий матрос писал в газете большевиков Гельсингфорса после Июльского кризиса, отвечая на обвинения своей партии в измене: «Мы знаем, какой класс поставляет Мясоедовых, Сухомлиновых, Леш, Ренненкампфов, Штюрмеров, Протопоповых и многих других…»1499
Опыт десакрализации монарха и монархии особенно ощутим в слухах о Керенском осенью 1917 года. Мы встречаем буквально те же идеологические блоки. Прежде всего это миф о заговоре. Интернационалисты обвиняли Керенского в том, что он, вместе с британскими и французскими империалистами, готовит заговор против революции. Правые же утверждали, что германские агенты давно манипулируют революционным премьером, который-де уже фактически заключил перемирие с врагом, тайно сотрудничает с большевиками и т.п.1500 Одновременно распространялись слухи о национальности и моральном облике революционного премьера: «еврей» Керенский, «сифилитик» и «наркоман», устраивает оргии в Зимнем дворце. Аналитик английского военного министерства писал: «Власть вскружила Керенскому голову, он развелся с женой, взял себе балерину и спит в постели императрицы»1501.
При этом подчеркивалась известная схожесть судеб бывшего императора и Керенского, частушка 1917 года гласила:
На столе стоит тарелка,
А в тарелке виноград,
Николай продал Россию,
А Керенский – Петроград1502.
Интересно отметить, что в фольклоре образ Керенского порой заменял образ бывшей императрицы. Другой, более ранний вариант этой частушки звучал так:
Посадил царь пшеничку,
А царица виноград,
Царь продал всю Россию,
А царица – Петроград1503.
В некоторых же слухах Керенский одновременно напоминает нескольких персонажей дореволюционных слухов, объединяя образы Николая II, императрицы Александры Федоровны и Распутина. Если антидинастические патриархальные слухи всячески подчеркивали немужественность царя, то и «левые» и «правые» слухи осени 1917 года рисуют женственный образ «Александры Федоровны» Керенского, якобы спящего на постели императрицы (в некоторых слухах – в белье императрицы), якобы переодевающегося в женское платье (костюм сестры милосердия!), чтобы избежать ареста, и пр.
Разумеется, и в этом и в других случаях слухи содержат гораздо больше информации о людях, их распространявших, чем об основных их персонажах. Изучение слухов и массовой культуры, впитавшей эти слухи, позволяет лучше понять архетипы политического сознания. По-видимому, они были общими у многих политических противников. Различные, подчас враждебные идеологии могли накладываться на глубинные структуры авторитарно-патриархального сознания. Так, у многих участников демократической революции антимонархическое сознание могло сочетаться с монархистской ментальностью. Недовольство «ненастоящим» царем часто становилось исходной точкой радикализации сознания, что порой могло приводить к отрицанию монархической формы правления, но при этом структуры политической культуры могли оставаться авторитарными.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Любому человеку, интересующемуся историей Российской революции 1917 года, давно известно, что последнего царя многие его современники считали, справедливо или нет, слабым правителем. Царица же имела устойчивую репутацию всевластной, развратной и коварной покровительницы могущественных «внутренних немцев» и всевозможных «темных сил». Эти карикатурные образы, жившие в сознании многих подданных Николая II, могли весьма отличаться от более или менее реалистичных портретов царской четы, однако именно они оказывали огромное влияние на развитие политической ситуации. Император и императрица искренне любили друг друга и желали военной победы России, но миллионы их современников были уверены в обратном, а именно это и определяло их действия.
Представляется, однако, что предложенное в настоящей книге сопоставление различных репрезентаций власти и тех различных образов представителей правящей династии, позитивных и негативных, которые общественное сознание по-своему развивало, позволяет все же несколько уточнить общую картину революции 1917 года.
Сознание революционеров – телеологично. В соответствии с ним общества классифицируются, а страны ранжируются в зависимости от степени их «готовности» к революции. Нередко телеологично и сознание историков, в особенности историков революций: вся предшествующая история рассматривается как предыстория неизбежной революции. Одни исследователи предъявляют внушительный список «объективных причин», сделавших революцию неизбежной, а другие сосредотачивают внимание преимущественно на тех общественных силах, которые оказались в лагере победителей. Так создается генеалогия новой власти.
Задним числом сложно представить иную, нереволюционную альтернативу развития общества, пережившего грандиозный переворот, переворот, который на десятилетия определил судьбы ряда стран. Исторические факты, отбираемые исследователем, выстроенные в хронологической последовательности, легко стыкуются во внешне убедительную причинно-следственную связь.
Но порой не менее сложно вообразить другую революционную альтернативу, трудно представить иную революцию, отличную от той, которая произошла в действительности. И это иное проявление телеологичности сознания истории. Прекрасно известно, что после Февраля 1917 года, после свершения революции, которую историки разных направлений называют «буржуазно-демократической», власть оказалась в руках либералов и социалистов. Поэтому при изучении политической жизни предреволюционной поры особое внимание уделяется тем партиям, организациям и лидерам, которые в разное время оказались у руля революционной власти. В последнее время эта тенденция в отечественной историографии еще более усилилась ввиду того, что исследователи особенно активно изучают деятельность политических элит. Применительно к истории революции 1917 года наиболее откровенно этот подход сформулирован в статье С.В. Куликова, а среди последних монографий, посвященных изучению роли элит в революции, следует выделить книги Ф.А. Гайды и А.Б. Николаева1504. Такая тенденция вполне объяснима: долгое время отечественным историкам навязывался примитивно понимаемый классовый подход, поэтому новое поколение исследователей меньшее внимание уделяет изучению социальных конфликтов и политического поведения социальных групп, уделяя основное внимание элитам. Но можно ли, например, построить модели описания Российской революции без новых исследований истории рабочих, истории, почти забытой в современных исследованиях? Бесспорно, в центре внимания историков революции должна находиться проблема власти. Но история власти не сводится к истории политических элит даже в так называемые «обычные» периоды, а условия революционного времени «элитистский» подход вряд ли в состоянии убедительно описать. Разумеется, именно элиты создают архивы, а сама структура архивохранилища и даже архивного фонда порой программирует и организует работу исследователя, структурирует его тексты, вследствие чего историки оказываются заложниками политиков, полицейских и бюрократов. Но достаточное ли это основание для построения подобных объяснительных моделей?