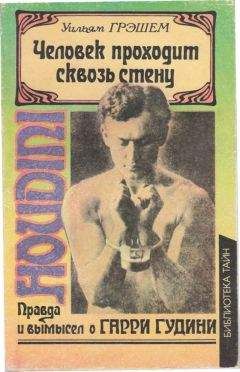Василий Немирович-Данченко - На кладбищах
— Россия идет к великой катастрофе. Наше полицейское правительство — совсем архаическое. Оно и слепо, и глухо. Я радуюсь, что умру скоро. Не доживу до страшных дней, когда наше отечество рухнет… В бессонные ночи — а они у меня часты — я вижу этот неизбежный суд истории. Подумайте: сколько времени прошло с раскрепощения крестьян, а им императорская власть не дала даже сносной школы. Александр II несколько раз говорил об этом, но наша придворная св. Германдада всегда становилась между ним и народом. Александру III и в голову не приходит народное образование. Если Победоносцеву удастся, он все его сосредоточит в руках попов. В этом ужас. Безграмотностью масс воспользуются умные демагоги и направят этот темный океан, куда захотят. И во всем так: возьмите родное мне военное дело. С турецкой войны сколько прошло? Ведь мы нашу балканскую кампанию едва-едва дотянули. Все у нас расползалось и разлезалось. А с тех пор ни одна прореха не заштопана. Успокоились на дешевом «Гром победы раздавайся» и заснули. Александр II говорил: «Нужно оставить это сыну». А сын взял Ванновского, который хвастается: «Вот я никакого высшего образования не получил, а сделался военным министром!» И вся мощь громадной империи в таких руках. А государь радуется: «Наконец я нашел человека, который мне понятен». Я не знаю, откуда придет гроза, но она идет. Я вот в этой комнате, закутавшейся от света в темные гардины, предчувствую, вижу грозу… Какой-нибудь нежданный враг ударит на нас. И расшибет… А потом неизбежный ход истории: другого нет. Побежденная страна потребует реформ. Не нынешнее же правительство даст их. Оно все время сидит на штыках. Положение неудобное… Сам народ возьмется за дело. Ну, первые попытки будут задавлены… А потом… Знаете, ужасно то, что эти люди думают, будто для них история создаст новые пути, а не погонит их по старым. Поэтому их не пугает пример других династий и режимов. Я у вас прочел: «Когда история приговаривает к смерти тот или другой порядок, он не находит к своим услугам ни талантливых, ни сильных, ни умных людей». Какая это правда! Я отсюда оглядываюсь на Петербург. Ведь там уже исполняется этот приговор. Вокруг Александра III — нет таких. Я их всех знаю и вижу отсюда. Какая это все бездарность! Да, вы правы, страшно правы. Хорошо умереть теперь… Советую и вам не дожить до исполнения вашего зловещего пророчества.
В это время он уж не выходил из дому.
Очень плохо себя чувствовал. Сам говорил: в груди арба скрипит… Лежал целые дни и только в окно любовался великолепными пальмами, магнолиями и такой святой чистотою лазури, какой не видел и в небесах родного ему Кавказа.
Он знал, что дни его сочтены, и ждал спокойно. Любил повторять:
— Я старый солдат, и если смерть до сих пор меня щадила, так уж никак не по моей вине. Каждый день для меня отсрочка и… не особенно ценю ее. Время такое, что мы с Милютиным не нужны. А так коптить небо скучно.
В Ницце было сильное землетрясение.
— Наш дом ходуном, — рассказывали мне на place Grimaldi. — Ждали, вот-вот рухнет. Все бежали, кого в чем застало (дело было ночью) — на улицу, на площадь, к берегу.
Денщик (при нем остался такой) будит графа.
— Вставайте, ваше сиятельство!
— Зачем?
— Земля трясется! Сейчас все провалится!
— Что провалится?
— Земля!
— Куда?
— Скрось землю!
Как раз в это время глухой удар и судорога кабинета, где спал на диване Михаил Тариелович.
— Что ж, ты думаешь, если я встану, земля успокоится? Ступай, не мешай мне спать!
Перевернулся и заснул.
А кругом росла паника, обезумевшие ниццарды чуть не кидались в море. Перепуганные иностранцы в костюмах, не поддававшихся описанию, сослепу носились по улицам, а великолепный Мамонт Дальский, как был в постели, так и влез на фонарный столб, весьма основательно сообразив, что дома, пожалуй, и не уцелеют, а столб во всяком случае устоит.
Вечера он проводил за винтом. Постоянным партнером графа был Харитоненко. Вообще, это была не жизнь, а медленное, скучное доживание.
— Я в первый раз узнал, что в сутках двадцать четыре часа! — говорил он.
Ему некуда было девать их. Другой осколок эпохи Александра II — Д. А. Милютин, уединившийся под тень Симеизских тополей и кипарисов, разводил виноградники, писал свои воспоминания (интересно узнать, в каких кладезях государственного или семейного архива хранятся эти драгоценнейшие документы?). Его посещали выброшенные за борт уцелевшие работники «времени реформ». Наконец, когда ему надоедало однообразие крымского пустынножительства, он садился на пароход в Севастополь и делал экскурсии в Константинополь, Афины, Патрас и через Апулию в Неаполь и Рим. В одной из таких я его встретил, и изумился бодрости и неутомимости этого старца. Лорис-Меликов переходил от дивана к столу, и только. На его лице все чаще и чаще я замечал уныние. Как-то у него вырвалось:
— Не знаю, зачем живу… Меня оторвали от живого и кипучего дела. Я ведь не знал минуты покоя. Все последние двадцать лет провел в бреши или, как один из ваших героев говорит, на Малаховом кургане.
Действительно, до тех пор, до этой ниццской живой могилы, обвеянной шелестом пальм, дыханием поздних роз и ласковым трепетом моря, но все-таки могилы, он стоял на страде, не отрывая рук от государственного руля. Хорошо или нет, но делал свое дело. Во всяком случае, несравненно лучше, чем полуграмотные дворники Александра III. А тут вдруг — уходи в пространство — ты нам не нужен. Понадобились гробокопатели, которые сведут на нет все, что удалось до сих пор сделать, несмотря на невозможнейшие условия законодательного зодчества. Отнята надежда на лучшее завтра, право крикнуть предостерегающее «берегись», когда видишь, что корабль несется на подводные рифы или на утесы, не различимые слепотствующим кормчим в туманах такого близкого будущего.
Он потому и дряхлел так быстро, — человек неутомимой борьбы, боевой тип. Он и в мирный труд в Петербурге, Харькове, на Кавказе, всюду, куда его бросала судьба или «высочайшее повеление», вносил решительные приемы военного времени, не знал сна и досуга, — а тут сплошное безделье, и некуда девать этих растягивавшихся в бесконечность, ничем не наполненных часов. И тянутся они для беспокойного характера, кипучей энергии и стальной воли так, что хоть головой в стену бейся…
Я упомянул о Милютине и его записках.
Лорис-Меликов вел тоже свои, но это был человек живого дела, а не письма, который сейчас же хотел видеть, что выходит из его работы. Милютин и на посту военного министра, и в бесчисленных комитетах — оставался профессором и писателем, обладавшим недюжинным талантом. Я помню его записки о Кавказской войне, в которой он участвовал еще при Николае I (ведь тогда все эпохи русской истории скрещивались не наиболее важными течениями народной жизни, — а вотчинным порядком — именами царей, часто враждебных собственному народу!). Не могу не повторить еще раз — авось это направит кого-нибудь, имеющего силы на такой подвиг, подобный Геркулесову в Авгиевых конюшнях — надо во что бы то ни стало найти мемуары Д. А. Милютина. Ведь они освещают дела и людей самой интересной эпохи нашей истории — эпохи, где этот просвещенный автор и по тогдашнему либеральный «сановник» был не только ответственным работником, но часто вождем и вдохновителем. Не ждать же нового беспардонного Носаря, который по малоумию и мстительному гневу возьмет да и сожжет государственный архив, как он жег такой же Петербургского Окружного Суда и Судебной Палаты. Там же ведь ждут во блаженном успении архангельской трубы многочисленные письма и записки М. Д. Скобелева. По повелению Александра III их отбирали у всех друзей и знакомых гениального полководца, может быть, для того, чтобы окутать непроницаемой тайной все обстоятельства его убийства спадассинами «священной дружины», убийства, совершенного по приговору, подписанному без ведома царя, — на это бы Ананас не пошел — одним из великих князей и «Боби» Шуваловым, считавшими этого будущего Суворова опасным для всероссийского самодержавия.
Да, Лорису было хуже, чем Милютину.
Мне кажется, что он и записки свои бросил.
По крайней мере, он не раз говорил:
— Я привык, любезный друг, не писать, а подписывать.
Еще диктовать туда-сюда, но и для этого в тогдашней ниццской русской колонии он не нашел бы достаточно грамотного и досужего человека. Визиты, сплетни, интриги вокруг русской церкви, файфоклоки, флирт и Монте-Карло поглощали все время этих в большинстве пустых и глупых недоносков. А кто был поумнее, у тех оказывались свои большие дела и неотложные работы.
«Либеральный чиновник» — это теперь звучит наивно и смешно. Мы берем такие верхние ноты, чуть ли не в трехчетвертное ля-бемоль социального творчества попали, что средний регистр нас не удивляет, но в те времена, о которых я вспоминаю, даже такой слабительный лимонад, как «диктатура сердца», был в диковину. Лориса-Меликова, впрочем, всегда тянуло влево. Он в своем изгнании дружил с Белоголовым, с Джаншиевым, с эмигрантами-врачами. Как-то я застал у него зловещую и несколько театральную фигуру настоящего бундиста. Было ли это со стороны Лориса-Меликова лукавство, но он так заворожил мрачного незнакомца, что тот, выходя со мною, несколько раз повторял: