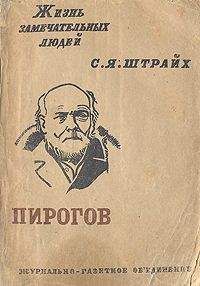Энн Эпплбаум - ГУЛАГ. Паутина Большого террора
После периода колебаний — аргументы за, аргументы против — нападки на Солженицына резко усилились. О возмущении некоторых работников лагерей и бывших заключенных желанием Ивана Денисовича поменьше работать я уже писала. Но звучала и критика более общего порядка. Критик «Литературной России» Лидия Фоменко обвинила Солженицына в неспособности сполна раскрыть диалектику того времени. Иными словами, Солженицын изобразил злоупотребления «культа личности», но не указал выхода, пути к светлому будущему и не вывел в рассказе положительных героев — коммунистов, в чьем лице добро должно в конечном счете восторжествовать. Присоединились и другие критики; некоторые даже стали указывать на художественные промахи Солженицына. В «Повести о пережитом» Бориса Дьякова — «советских» лагерных мемуарах, вышедших в 1964 году, — соответственно заказу изображены трудолюбивые, верные советской власти заключенные.[1430]
Когда рассказ Солженицына был выдвинут на Ленинскую премию в 1964 году, недоброжелатели активизировались еще больше. Под конец они перешли к личным инсинуациям. На заседании комитета по Ленинским премиям первый секретарь ЦК комсомола Павлов заявил, что Солженицын сидел не по политическому делу, а по уголовному. Твардовский за сутки добыл копию судебного решения о реабилитации Солженицына, но было поздно. Ленинскую премию получил роман Гончара «Тронка», ныне совсем позабытый, а карьера Солженицына как печатаемого литератора подошла к концу.
Он продолжал писать, но до 1989-го ни одно из его произведений легально в СССР не вышло. В 1974 году он был выслан из Советского Союза и поселился в Вермонте в США. До эпохи Горбачева лишь немногие советские граждане — те, кому попали в руки подпольно перепечатанные на машинке или нелегально ввезенные из-за границы экземпляры, — читали «Архипелаг ГУЛАГ», его историю советских лагерей.
Солженицын не был единственной жертвой этого отката к партийному консерватизму. В то самое время, когда споры по поводу «Ивана Денисовича» чрезвычайно обострились, разворачивалась другая литературная драма: 18 февраля 1964 года состоялся суд над молодым поэтом Иосифом Бродским, обвиненным в тунеядстве. Начиналась эпоха диссидентов.
Глава 26
Эпоха диссидентов
Однако радоваться рано —
и пусть орет иной оракул,
что не болеть зажившим ранам,
что не вернуться злым оравам,
что труп врага уже не знамя,
что я рискую быть отсталым,
пусть он орет, — а я-то знаю:
не умер Сталин. Как будто
дело все в убитых, в безвестно
канувших на Север — а разве
веку не в убыток то зло,
что он в сердцах посеял?
Пока есть бедность и богатство,
пока мы лгать не перестанем и не
отучимся бояться, — не умер Сталин.
Смерть Сталина поистине ознаменовала конец эпохи массового рабского труда в СССР. Хотя в последующие сорок лет советская репрессивная политика порой принимала очень жесткие формы, никто не предлагал возродить систему концлагерей в крупных масштабах. Никто больше не пытался сделать их центральной частью экономики, использующей труд миллионов людей. Тайная полиция никогда больше не контролировала такую крупную часть национального производства, начальники лагерей никогда больше не возглавляли огромных индустриальных комплексов. Здание КГБ на Лубянке перестали использовать как тюрьму: последним тамошним заключенным стал Гэри Пауэре, пилот американского разведывательного самолета У-2, сбитого над СССР в 1960 году.[1431]
Однако лагеря не исчезли полностью, и советские места заключения хоть и изменились, но не стали частью «обычной» пенитенциарной системы, предназначенной только для уголовных преступников.
Прежде всего, изменился состав политзаключенных. В сталинскую эпоху репрессивная система напоминала огромную рулетку: в любой момент и по любой причине могли арестовать кого угодно — крестьянина, рабочего, партийного руководителя. После Хрущева людей все еще изредка брали «ни за что», как сказала в свое время Анна Ахматова. Но в большинстве случаев брежневские «органы» арестовывали людей за что-то — если не за настоящее преступление, то за несогласие с режимом в литературной, религиозной или политической сфере. Обычно называвшиеся диссидентами, а иногда узниками совести, «политические» нового поколения знали, за что они арестованы, и называли себя политзаключенными. Их особый статус признавали и власти: их держали отдельно от уголовников, у них был другой режим и другая одежда. Клеймо диссидента оставалось на них и после освобождения: их подвергали дискриминации при приеме на работу, к ним с опаской относились родственники и соседи.
Политзаключенных было теперь гораздо меньше, чем в сталинские времена. По оценке организации «Международная амнистия», в середине 70-х из миллиона советских заключенных не более 10 000 отбывали срок по политическим статьям, и большинство из них содержалось в двух «политических» лагерных комплексах — один в Мордовии, другой в районе Перми.[1432] За год, по всей вероятности, происходило самое большее несколько тысяч откровенно политических арестов. Для другой страны это была бы большая цифра, по меркам сталинского СССР это было совсем немного.
Судя по сообщениям бывших заключенных, эти новые политические начали появляться в лагерях уже в 1957-м — после венгерского восстания октября 1956 года, когда были арестованы некоторые советские военнослужащие и гражданские лица, выражавшие сочувствие повстанцам.[1433] Примерно к этому же времени относятся первые единичные случаи ареста «отказников» — евреев, которым отказывали в праве эмигрировать в Израиль. В 1958 году Биму Гиндлеру, польскому еврею, оставшемуся после войны по советскую сторону границы, не разрешили репатриироваться в Польшу на том основании, что впоследствии он может уехать в Израиль.[1434]
В конце 50-х произошли и первые аресты советских баптистов (они вскоре стали крупнейшей диссидентской группой за колючей проволокой) и членов других религиозных объединений. В 1960 году диссидент Авраам Шифрин встретил в штрафной камере политического лагеря в Потьме группу старообрядцев. Их религиозная община с 1919 года тайно жила в девственных лесах Северного Урала, пока много лет спустя власти не обнаружили их с вертолета. Когда Шифрин их встретил, они были постоянными обитателями штрафных камер, поскольку категорически отказывались работать на безбожную власть.[1435]
Сам же Шифрин был представителем новой категории заключенных — сыновей и дочерей «врагов народа», которые во второй половине 50-х не могли гладко войти в советскую жизнь. В последующие годы чрезвычайно большую долю диссидентов, в особенности защитников гражданских прав, составляли дети или другие родственники жертв сталинских репрессий. Один из известнейших примеров — братья-близнецы Жорес и Рой Медведевы. Историк Рой был в числе самых известных подпольных публицистов СССР; Жорес, ученый-диссидент, был насильственно помещен в психиатрическую больницу. Их отца арестовали как «врага народа», когда они были еще детьми.[1436]
Есть и другие примеры. В 1967-м сорок три человека — дети репрессированных Сталиным коммунистов — направили в ЦК открытое письмо, где речь шла об угрозе неосталинизма. Это послание, ставшее одним из первых среди немалого числа открытых писем властям, подписали несколько подпольных издателей и диссидентских лидеров, многие из которых вскоре были арестованы: Петр Якир, сын генерала Якира; Антон Антонов-Овсеенко, сын известного большевика-революционера; Лариса Богораз, чей отец был арестован за «троцкизм» в 1936 году. Лагерного опыта отцов, кажется, было достаточно, чтобы радикализовать детей.[1437]
Помимо состава политзаключенных, изменились некоторые аспекты законодательства. В 1960-м (этот год обычно называют вершиной «оттепели») был введен в действие новый уголовный кодекс. Несомненно, он был либеральней старого. Он запрещал ночные допросы, ограничивал полномочия КГБ, который вел политические расследования, и МВД, в ведении которого находились места заключения. Он устанавливал большую независимость прокуроров, и, самое главное, в нем не было ненавистной 58-й статьи.[1438]
Некоторые из этих перемен были справедливо сочтены простым камуфляжем, словесной реформой взамен реальной. «Вы, например, ошибаетесь, — писал другу из заключения литератор-диссидент Юлий Даниэль, — если думаете, что я сидел в тюрьме — я „содержался в следственном изоляторе“, и меня не бросали в карцер, а „водворяли в штрафной изолятор“, а занимались этим не „надзиратели“, а „контролеры“, и письмо это я Вам пишу отнюдь не из концлагеря, а из „учреждения“».[1439]