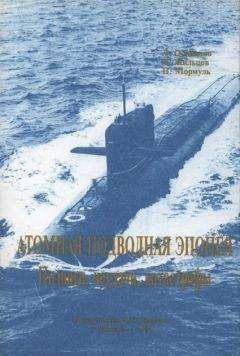Анатолий Елкин - Атомные уходят по тревоге
Конструктор улыбнулся.
— Ты думаешь, я не мечтаю о временах, когда вместо ракет мы «загрузим» атомные подводные лодки только поэтами и учеными! Мечтаю, брат… Только когда это еще будет. А поставить под возможный удар наше будущее, Революцию, детей, — этого-то как раз совесть нам и не позволит. Так что, друже, с совестью у нас все в порядке. Спим спокойно…
— В принципе ты, Сергей, прав, конечно.
— Что тяжело?
— Работа твоя.
— Работа как работа. Не хуже и не лучше других… Ладно, хватит философствовать. Через полчаса — час «икс». Идем…
На чертежах все это выглядело академически спокойно и даже увлекательно: длинные сигары, красиво легшие в контейнеры. Сейчас, когда чертежи превратились в стальную плоть и с часу на час все эти бесчисленные схемы, автоматы и устройства должны были сработать, вступили в действие необозначенные на чертежах сложные психологические комплексы, с которыми нельзя было ничего поделать.
Разрядка, конструктор знал это по опыту, наступит только после испытаний. Ранее можно не подавать виду, казаться невозмутимым, но каждый на корабле от лично понимал, что невозмутимость эта кажущаяся, что нервы сжаты до предела, и сделать тут ничего нельзя.
Там — на земле, на стендах — все казалось солидней и прочнее. Сопла ракет посылали пламя в бетонную твердь, и бушующее в дюзах пламя, способное, казалось, прожечь землю насквозь, улетало пылью, грохотом и паром, вздымавшимися под пусковым устройством. Двигатели истошно ревели на стендах, но в пространстве и широте полигона все это не вызывало ассоциаций, связанных с необычным. Сам по себе этот гул на бетонном поле напоминал привычные аэродромы, где летчики перед прыжком в высоту запускали реактивные двигатели.
Здесь все было иначе, и, наверное, не только ему, конструктору, было немного не по себе уже от сознания того, что мощные ракеты совсем рядом: стоит отдраить люк, и можно потрогать рукой холодный металл чудовищной сигары. Огненный смерч, таящийся до поры до времени в их стальном чреве, не отделен от людей мощным бетоном наблюдательных пунктов: только кажущаяся несолидной в таком деле сталь пусковых шахт должна была принять на себя и выдержать бушующее пламя. То, что при нажатии кнопки яростно вырвется на простор, не найдет простора.
Жизнь всегда вносит поправки в расчеты, и, кто знает, сколь существенными — не роковыми ли — эти поправки окажутся?
Конструктор прошел по отсекам, придирчиво всматриваясь в лица людей, словно проверяя и себя и их. Кажется, спокойны. Хотя — черта с два. Разве в таком деле можно быть спокойным? По взглядам, ненароком бросаемым на него, можно было прочесть немые их вопросы: «Ну как, товарищ конструктор, переживаешь? Уверен в своем детище? Все проверил?»
Только ответить на такое способен лишь сам пуск. И они это знали не хуже его, потому и напряглись в ожидании, сжали нервы, озабоченно поглядывали на часы — сколько времени осталось до неизвестной им минуты «икс», когда ожидание кончится и наступит первая разрядка.
Звонко прогремел в динамиках голос командира:
— Боевая тревога!..
Пока боевые части докладывали о готовности, конструктор прошел в центральный пост.
Стрелка хронометра стремительно приближается к черте.
Пять секунд.
Три…
Две…
— Пуск!
Все, что создано на лодке умными руками человека, подчинено этой секунде. Все! И мастерство, сила, знание, опыт людей — тоже воплощены в ней.
Командир нажимает красную кнопку.
Вздрагивает корпус лодки.
Страшный рев прокатывается над океаном.
Электроника и автоматика — они стремительно выводят ракету на заданный курс.
Ее уже ничто не собьет с курса.
Удар ее будет неотвратим.
Удар по невидимой отсюда цели, которая находится во многих сотнях или тысячах километров от этого моря…
Когда они получили подтверждение, что цель поражена, конструктор сказал командиру:
— Устал я что-то сегодня. Пойду отдохну.
— А ужин?
— Не хочется.
— Неудобно как-то.
— Почему? Я же не голоден… И не стесняюсь…
— Я все же пришлю ужин с вестовым вам в каюту.
— А вот на это не согласен. Принципиально. Я здесь — как все. И делать для меня исключения не позволю.
— Ну, вас не уговоришь, с какого боку ни подступайся, — проворчал командир. — Счастливо отдыхать…
— Спасибо…
Городок еще спал, когда лодка возникла из мглы на линии ближайших створных знаков.
Вначале тускло мелькнули, как бы осторожно нащупывая дорогу, ходовые огни. Потом темной громадой обозначился увеличивающийся с каждой минутой силуэт субмарины, черные тени людей на рубке. И белое пятно за их спинами прояснилось развевающимся на резком колючем ветру полотнищем флага.
Поземка зло крутила по пирсу, бросая в лица людей обжигающую ледяную крупу. Небо и черная вода с сиреневой кромкой припая еще были одним туманным целым.
Офицеры поеживались от резкого ветра, неуклюже переминались, чтобы хоть немного согреться, но, когда из подъехавшей машины вышел Сорокин, кое-кто опустил воротник шинели, а кто-то поправил запорошенную снегом шапку: флот есть флот, и негоже показывать хоть минутное отступление от флотского шика, настолько вошедшего в плоть и кровь моряков, что где-то стало уже нормой поведения, несоблюдение которой, тем более при начальстве, свои же товарищи сочли бы если не бестактностью, то бескультурьем.
А громада лодки становилась все ближе и ближе. Вот уже на рубке ясно различаются знакомые лица, а на корме и носу — оранжевые спасательные жилеты матросов.
— Подать швартовы. — Команда доносится сквозь завывание ветра, надсадный стон моря.
Концы летят на пирс. Тут же подхватываются ловкими руками, намертво закрепляющими их на стальных кнехтах.
И сразу все и отрывистые слова команд, и разбойный посвист снежного заряда, и летящий с моря гул — тонет в рванувшейся с пирса мелодии. Ее впервые слышали эти скалы, хотя и родилась она не сегодня и не вчера и каждый, стоящий сейчас и на пирсе и на рубке субмарины, с далеких огненных лет помнил слова, которые угадывались за этим торжествующим, широким, как моряцкая душа, ритмом:
Родных кораблей патриоты
Со львиной отвагой в груди.
Гвардейцы советского флота
Всегда и везде впереди…
Глава III
ЗА ГРАНЬЮ НЕВЕДОМОГО
Борис Корчилов прошел мимо красного кирпичного здания школы, машинально провел рукой по железной ограде — прутья отдавали влагой и холодком — и перед входом в подъезд огляделся.
Ну что же, прощай, улица Моисеенко! Страна, где он знает каждый проходной двор, всех ребят из окрестных домов и переулков, их родителей и знакомых. Это только кажется, что Ленинград большой город. Если ты всю свою, пусть небольшую, жизнь прожил на одной улице, учился в одной школе и вместе с тобой взрослели сотни ребят, с которыми ты ежедневно сталкивался в одном кино, театре, что расположен по соседству, в одном классе, на одних лестницах и площадках, ты невольно оказываешься обладателем сотен знакомств и проверенных временем симпатий и антипатий. Впрочем, антипатии в этом возрасте весьма относительны: из-за драки или недоразумения в десять — двенадцать лет не становятся врагами.
Прощай, улица Моисеенко! Разной виделась ты за эти годы. После тех жутких блокадных зим он как-то быстрее старался взбежать к себе на третий этаж. Не могло забыться, как внизу, под этой самой лестницей с витой чугунной решеткой, лежали заиндевелые свертки, в которых легко угадывались наспех прикрытые трупы. У людей не было сил хоронить близких.
К весне появился грузовик. Трупы погрузили и увезли куда-то на Пескаревку. Лишь после войны ему довелось там побывать. Он провел на мемориале почти весь день, бесцельно блуждая мимо ярко-зеленых квадратов братских могил, где лежали тысячи и тысячи его сверстников.
«Значит, мне повезло, — подумал он. — Могло быть все значительно хуже, уважаемый Борис Александрович. И ничего бы не было: ни этой весны, ни выпускного бала в Дзержинке, ни новеньких лейтенантских погон, осенивших со вчерашнего дня твои плечи». Они казались ему своего рода пропуском в удивительный мир, к которому он шел все долгие годы. А теперь — все. Рубикон перейден, и — да здравствует море!..
Дома его ждали Виталий и Генка. Оба в отутюженных кителях, сверкавших лейтенантскими погонами. Оба со степенным видом людей, заслуженно произведенных по крайней мере в чин адмирала.
Виталька рассматривал «Огонек».
Генка сидел на подоконнике и разглядывал двор: серый угол глухой стены, прилепившиеся к ней сарайчики-пристройки.
— Наконец-то! — Генка соскочил на пол. — Где тебя черти носили? Мы тебя уже полчаса ждем.