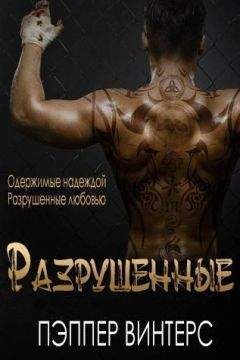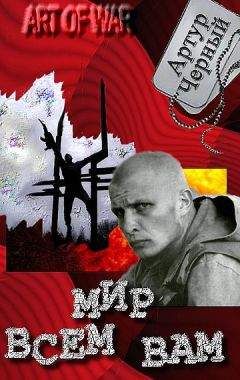Сергей Дубавец - Русская книга
«А мне мучительно не больно за годы, прожитые с целью»…
Так в чем же смысл жизни? В продлении жизни смысл всего живого. А конкретно смысл жизни моей, твоей, пятого — в том, каким смыслом я, ты и пятый наполняем каждый свою жизнь. Это если «опустить» понятие, переставить его опять-таки с головы на ноги.
Вот только конкретизировать не рекомендовалось. Тут был найден свой промежуток — между тобою и всем живым. И смысл этого промежутка был в строительстве коммунизма на земле и прочих подобных делах.
Но это все было. Мы оттуда еще не ушли, но уже представляем себе — откуда. И сейчас самое время повернуться и представить — куда.
В другое измерение, туда, где эмоции в контексте ratio. Здесь наоборот — даже самые абстрактные логические умозаключения (например, известное: относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы они относились к тебе) имеют столь же предметный вид, как аксиома «чтобы не голодать, нужно поесть». Здесь голод означает — голод, а поесть означает — поесть. Здесь действует причинно-следственная связь, здесь все стремится к соответствию.
Побывав в зоне Чернобыльской катастрофы, один приезжий экстрасенс говорил людям о том, что им для спасения, кроме всего прочего, следовало бы разговаривать на языке своих предков, ибо в нем многими поколениями накоплена наиболее адекватная энергия. Именно в таком соответствии он видел неиспользуемые резервы человеческого организма в борьбе с излучением. Можно ли считать такую рекомендацию нездравой? Ортодокс в стремлении к стопроцентной ортодоксальности убивает свой организм. Вспомним замуровавшегося Кирилу Туровского, вспомним уже упомянутого комсомольца, вспомним многочасовые изнурительные доклады Л.И.Бреж- нева… Другая крайность тоже известна. Ее обычно передают фигурой из трех пальцев, где большой палец — голова, а остальные — плечи. В нашем же примере с экстрасенсом речь идет о гармонии духовного и физического, о соответствии как силе и защищенности человека. Но это только здесь, в этом измерении.
Вот как выглядит «усиленная» характеристика этого измерения (по Достоевскому): «А что, если так случится, что человеческая выгода иной раз не только может, но и даже должна в том состоять, чтоб в ином случае себе худого пожелать, а не выгодного?» Шахматная логика. Добро влечет за собой добро, зло порождает зло. Чем дальше мы видим причинно-следственную цепочку, чем на большее количество ходов вперед мыслим, тем лучше.
Здесь Свобода, Родина, Беларусь (а если хотите, то и Ленин, Партия, Коммунизм) — понятны не только сердцем, но и рассудком. Здесь прежде них и прежде всего — безотносительное существование человека, а они — уже не царящие шаблоны пустых слов, а лишь методы, методики, методологии этого существования, жизненные проекты. Какой выбрать?..
Для ответа у меня уже есть кое-какой «инструментарий». Ощущение ухода, от иррационального к рациональному, направление свободы, путь. Понятие «белорусский путь» понемногу приживается в нашей литературе. Мы не говорим о «белорусской идее» или о «белорусском вопросе». В качестве связки у нас называют именно путь.
Дело в том, что всякое национально-освободительное движение пишет на своем знамени слово «свобода». Свобода есть самоответст- венность. Чем адекватнее и безраздельнее эта самоответственность, тем полнее свобода. Чтобы точно определить круг своей ответственности (в том числе за себя и перед собой), необходимо точно определить себя. Для общности людей это «себя» наиболее полно выражается в определении нации, то есть определенной культуры, породы (может, грубо, но в ratio наиболее точно) данной общности.
Если свобода — понятие общее, общечеловеческое, космополитическое, — то понимание свободы, наполненность ею, внутренняя ориентированность на нее, готовность к ней — разные, национальные. В какой мере, скажем, русская идея или еврейский вопрос — это идея и вопрос свободы? Насколько белорусский путь — это путь к свободе? Так же, как идея, вопрос, путь здесь тождественные и разные понятия, так и свобода — одна для всех, и у каждого своя.
Между прочим, замечу, что «белорусский путь», по- моему, еще не самое адекватное определение, и я использую его только потому, что оно весьма условно. История еще не привела нацию к такому состоянию, когда связующее понятие между словами «Беларусь» и «свобода» определенно и канонично. Я бы даже заменил слово «путь» словом «уклонение», если бы последнее не было методологически размытым. Нас же теперь интересует именно методология, а методология национального кодируется именно в названном связующем понятии. Поэтому оставим пока условный «белорусский путь».
Философия свободы (самоответственности) уже названа вершиной философии экзистенциализма (первичности существования). В свою очередь, экзистенциальное сознание пришло в цивилизованный мир вместе с урбанизацией. Человек потерялся в большом городе, и здесь, вдали от святынь, важнее и ценнее всего, абсолютнее всякого прочего абсолютизма, показалась ему его никчемная жизнь.
Происходило ли, и как это происходило в Беларуси? Попробуем эскизно нарисовать путь нации к сознанию свободы.
Абсолютизма Беларусь не знала никогда. Точнее, она слишком хорошо знала соседские абсолютизмы — религиозные, национальные, государственные в самых нечеловеческих проявлениях, — чтобы самой произвести на свет какой-нибудь свой белорусский абсолютизм. Неприятие мессианских, фундаменталистских, романтических идей выразилось в национальной уклончивости, в терпимости, которую «зашкаливало» порой вплоть до самоотречения.
Мы так и не обрели «своей» религии, воспринимая предлагаемые соседями православие, католичество, протестантизм, как чужое. Нация постоянно делилась надвое между неизменно русским православием и польским католичеством, и будь она хоть немного фанатична в религии, мы давно уже говорили бы о белорусах как об исчезнувшем народе. Удивительно, что между двумя, принадлежащими к враждебным, причем ярко окрашенным в национальные цвета — русский и польский, конфессиям, частями нации так и не произошло фатального раскола. Не здесь пролегла кривая денационализации. Не слишком охотно белорусы становились поляками или россиянами. Куда как охотнее переставали быть белорусами.
Когда соседние державы стали использовать в своей политике наше «вплоть до отречения», белорус начал пренебрегать своим языком, он уже побаивался быть белорусом, брезговал кровными связями… Но это позже. Изначально же самоотречение было продиктовано чрезвычайной осторожностью старобелорусской государственной политики в ее симпатиях и антипатиях, толерантностью, как ее основополагающим принципом. Вспомним привилей Великого князя Витовта евреям, гонимым тогда по всей Европе, или — попытку в унии примирить две враждующие конфессии, или — выборы великого князя… Все явно здравые, рассудочные деяния. Никаких эмоций. Разве что в поздней уже поэзии доведенное до крайности самоотречение находило свою противоположность:
Любі чужое аж да пакланеньня,
Сваё любі да самазабыцьця…
Думая об интенсивности ассимилятивных процессов, об этом многовековом изощренном прессинге, о слабой вроде бы сопротивляемости, невольно приходишь к мысли о предопределенности, точнее — о закономерности возникновения белорусской нации, о ее живучести. Странно… Этот десятимиллионный народ уже несколько десятилетий обезглавленный, почти не говорящий на своем языке, не знающий (да и не знавший никогда) своей истории, все равно при каждой новой переписи заявляет о своем существовании, о том, что он по-прежнему десятимиллионный… Как этот народ, не знавший деспотизма, агрессивности, абсолютизма в собственной политике на протяжении всей своей тысячелетней истории, народ, территория которого была ареной всех мировых войн, деспотизмов и абсолютизмов, многократно укорачиваемый войнами на четверть, на треть, наполовину, — как он выжил?
А может, поэтому и выжил? Вынужденный постоянно держать в напряжении свое «генетическое сознание»… И стоит теперь ослабить внешнее воздействие, как ослабнет и иммунитет. А «благоприобретенные рефлексы»: национальная государственность, наука, культура, экономика, — либо отсутствуют, либо настолько слабы, что вряд ли воспрепятствуют искушению другими мощными национальными государственностью, наукой, культурой. И языком.
На протяжении всей нашей истории над головами нации перекатывались две волны: западная экспансия и восточная, польская и московская. То одна волна покрывала весь край, то другая (писатели часто сравнивают Беларусь с Атлантидой), то сталкивались они посредине, то вдруг расходились. И тогда между ними появлялись словно те пушкинские тридцать три богатыря или уитменовские 28 мужчин — белорусы. Уже как субъект политики и истории. Вся наша тысячелетняя история представляется мне таким вот то явлением, то исчезанием в чужестранных волнах.