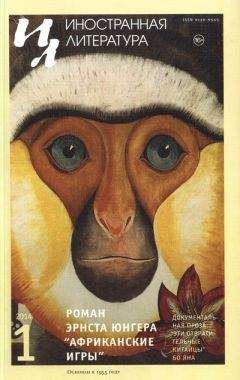Эрнст Юнгер - Ривароль
Государство — корпорация «мертвой руки». Поэтому все в нем подчинено ренте и извлечению пользы, и потому же в прежние времена говорили: «Король всегда остается несовершеннолетним, а монаршие земли неотчуждаемыми».
Философы любят основывать равенство на анатомических совпадениях. Из того, что нервы, мышцы и внешний облик двух горожан не отличаются друг от друга, они выводят их равенство — но путая сходство с равенством, можно впасть в роковое заблуждение.
Народ всегда полон желаний, из которых многие противоречат благу государства, поскольку народы никогда не выходят из детского возраста. Если он, как некогда евреи, покидает свою страну и следует за вожаком в пустыню, требуется волшебство, чтобы зачаровать его, и должны приключиться чудеса ради его спасения. Если он потом выбирает себе военачальника или царя, то в этом великом действе политики не больше, чем то бывает необходимо при избрании почетного председателя. Напротив, выбор того или иного по своему усмотрению большей частью проходит под несчастливой звездой.
Полная защищенность собственности и неприкосновенность личности — вот как выглядит подлинная социальная свобода.
Свобода вне общества не подразумевает безопасности, которую невозможно помыслить как без свободы, так и без общества.
Часто спрашивают, правители ли созданы для народов, или народы для правителей. Ответ прост: народы созданы для государства и образуют его тело, тогда как правительство представляет собой голову. То и другое существует для целого. Стрелки часов изготовлены не ради шестеренок, как и последние — не ради стрелок: те и другие предназначаются для часов.
Если государь набожен, то исповедник должен быть государственным деятелем.
Деспотические государства чахнут от недостатка деспотизма, как культурные люди от нехватки культуры.
В государстве арифметическое большинство нужно четко отличать от политического.
Природа вынуждает нас либо зарезать курицу, либо умереть от голода; на этом основываются наши права. Происхождение политических инстанций таково: из потребностей вырастают права, а из прав полномочия. Во Франции же народу отдали полномочия, на которые у него не было прав, и права, в которых у него не было потребности.
По мере того как народ расстается с суевериями, правительство должно повышать бдительность и строже следить за авторитетом и дисциплиной.
В Англии ум всегда более здрав, во Франции он удачливее в выражении; поэтому английский народ лучше в целом, тогда как во Франции скорее встретишь лучших людей.
У человека подчиненного вежливость — сословный признак, у благородного же она — признак воспитанности. Поэтому он, несмотря на революцию, сохраняет хорошие манеры, ведь по ним судят о его воспитании. Человек же из народа будет груб, чтобы доказать, что переменил сословие. Он сквернословит и наносит оскорбления, потому что раньше повиновался и подхалимничал: так он понимает равенство.
Абсолютный монарх может оказаться Нероном, но иногда бывает Титом или Марком Аврелием. В народе же часто виден Нерон и никогда — Марк Аврелий.
В спокойные времена слава определяется иерархическим порядком. В периоды революций она зависит от мнения черни; это время мнимых величин.
Как известно, если смотреть с Земли, движение остальных планет кажется беспорядочным и запутанным, и потому нужно переместиться на Солнце, чтобы постичь порядок всей системы. Подобным образом у частного лица суждения о государстве, в котором оно живет, менее точны, чем у того, кто стоит у кормила.
Господствующий в природе порядок удивителен. И все же в ее все перемалывающем шестеренчатом механизме гибнет множество насекомых, как в государствах — множество индивидуумов.
И для отдельного человека, и для целого народа большое несчастье происходит от слишком хорошей памяти о том, чем он когда-то был и больше уже быть не может. По этой причине современный Рим обзавелся консулами и трибунами. Но время подобно реке: оно никогда не возвращается к своим истокам.
В страстном возбуждении великий народ способен только на расправу.
Бывают времена, когда правительство утрачивает доверие народа, но вряд ли оно само хоть когда-либо может народу доверять.
Совершенное правительство могло бы в равной мере и изнасиловать разум, и образумить насилие.
Неблагоразумно и даже пагубно было бы советоваться с детьми об их будущем. Мы должны все решать за них и скрывать перед ними свою нерешительность, которая не только не придаст им новых сил, но и лишит всякого к нам доверия; точно так же дело обстоит с народами и их правительствами.
О Революции. Из всех французов мы были первыми, кто еще до штурма Бастилии обратил свое перо против Революции. Сам Берк признал это в своем замечательном, впоследствии опубликованном письме к моему брату, и мы этим гордимся. Не без опаски, но уверенные в том, что будем вознаграждены в своих убеждениях и своей совести, мы отважились вступить в борьбу в тот час, когда все еще видели в Революции великое благодеяние философии, высокую гармонию, плод Просвещения. Национальное собрание, чья власть основывалась на слабости короля, а высокомерие объяснялось столичной строптивостью, опьяненное успехами и фимиамом, расточаемым ему в провинциях и за границей, впадало в крайности и в своем ослеплении не догадывалось, какие плодывзойдут из его посевов и каких наследников оно себе воспитает.
Напрасно мы устно и письменно выступали в защиту религии, морали и политики во имя человечности и опыта всех прежних веков. Голос наш терялся в шуме грандиозной катастрофы; мы замолчали.
Наш политический журнал охватывает только первые шесть месяцев революции. Мощные удары уже были нанесены. Разум сначала оказался не у дел, а затем и сделался преступным. Король томился в заточении в Париже, дворянство и духовенство были разогнаны и обращены в бегство. Законы уступили место декретам, деньги — ассигнатам; якобинцы вели беспрерывные заседания. Чем еще могли помочь себе люди честного сердца и здравого ума в ситуации, когда надежды и виды на будущее сохранились только у бандитов да сумасшедших? Итак, нам пришлось эмигрировать, пока якобинцы еще предпочитали наше бегство нашей гибели, и идти со своей нуждой к тем правителям и народам, которые согласны были нас терпеть.
Судьба нации тотчас же отразилась и на войске. Несмотря на дворянское происхождение, многие офицеры жаждали больших или меньших перемен. Солдаты их до сих пор были просто механизмами, когда же они сделались демократами, офицеры превратились обратно в аристократов, как будто содействовали Революции лишь для того, чтобы быть истребленными ею. В самом деле, духовенство, дворянство, парламенты, все лучшие люди почти повсюду желали Революции, когда нация в массе своей еще была охвачена сном, — но когда она поднялась, повинуясь их призыву, им пришлось спасаться бегством или всходить на эшафот. Я не одобрял эмиграцию и покинул отечество только в 1791 году. Король хотел этого: мое перо могло сослужить службу его братьям. Я готов к тому, что за это мне не скажут спасибо.
Если революционным событиям суждено когда-нибудь повториться, то угнетенные вряд ли станут искать в наших статьях целительные наставления, злодеи же найдут себе образец в интригах якобинцев. В 1789 году мне доводилось видеть членов Законодательного собрания, прилежно изучающими Кларендона, в которого они до той поры и не заглядывали, — чтобы узнать, как Долгий парламент обошелся с Карлом I.Впрочем, поскольку человеческое себялюбие и страсти неискоренимы, я полагаю, что история ничему не учит ни королей, ни народы и что, если бы Людовику XVI повезло обрести продолжателей своего рода, его несчастье, его ошибки ровным счетом ни от чего бы их не предостерегли.
Вместо прав человека лучше было бы сформулировать принципы государства. Это следовало бы вменить в обязанность Учредительному собранию, которое, как известно, не учредило ничего, кроме наших несчастий. Но на этом пути ему пришлось бы опасаться критики; поэтому оно предпочло вооружить человеческие страсти, в особенности тщеславие, поставив во главу угла права человека и не подумав о том, что под таким титулом никакая конституция невозможна. Под ним скрывалась не только Революция, но и зачатки всех будущих революций, и конституция, опирающаяся только на права человека, заранее обрекала себя на бессилие перед ними. Все властные инстанции, включая короля, были проглочены Революцией, потому что хотели противодействовать ее духу, цепляясь за букву конституции.
Вместо «Hoc est jus»,[22] Учредительное собрание провозгласило «Jus esto»,[23] нанеся тем самым ущерб и королевской власти, и своей собственной конституции.