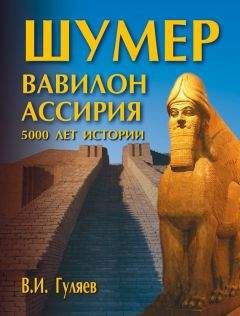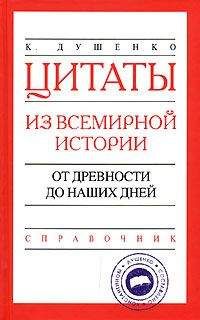Эльза Триоле - Маяковский, русский поэт
Следует сказать, что настойчивым он был не только с желанными женщинами. Его жизнь вообще можно охарактеризовать упорством, смелостью и силой воли. Всем тем, что возможно лишь тогда, когда ты абсолютно уверен, что прав, что идея Истины обязательно победит, когда ты полностью убеждён, что чего-то стоишь… И когда обладаешь той духовной выносливостью, которой Маяковский — живущий на одних нервах — обладал в высокой степени. Я не буду рассказывать здесь, к примеру, об истории долгой борьбы, которую ему пришлось пережить, чтобы поставили его пьесу "Мистерия Буфф" (1918). Встреченную сначала Мейерхольдом и Луначарским с энтузиазмом, её начали передавать из театра в театр и саботировать самым мелочным образом "творческой элитой"… А когда в итоге её поставили в театре Мейерхольда и она имела заслуженный триумфальный успех и шла многие сезоны, Маяковский всё ещё был вынужден бороться за то, чтобы ему заплатили! Ему без обиняков говорили: "Да нам спасибо нужно сказать за то, что мы отказываемся платить за такой мусор". Дело закончилось в суде, который решил полностью в пользу Маяковского.
Он никогда не сдавался. Поражение для него означало лишь этап пути к победе. И всё же…
Он часто бывал озабочен, хмур, молчалив. Знакомившись с неприятными ему людьми, он выказывал откровенную скуку и становился таким необщительным, что люди предпочитали не оставаться в его обществе… если это не срабатывало, то он давил их, как паровой каток…
Он любил только "своих" людей. Ему были необходимы узы — с родиной, с любимыми. Каждый раз уезжая из Москвы, он едва не умирал от тоски.
Он заставлял себя путешествовать, считая, что это совершенно необходимо для его рода деятельности. Париж был не так страшен, потому что там жила я, часть "семьи", некто, кто любит и ненавидит те же вещи и тех же людей, что и он, кто делит с ним дружбы и ссоры. Ему было необходимо ощущать доверие. Он очень ценил преданность. Он требовал её от других и, если сам был предан, то навсегда, до смерти. Поэтому у людей, знающих, что на него можно положиться — у нации, близких — возникло такое жуткое ощущение предательства, когда он покончил с собой.
Его отношение к друзьям было бурным, собственническим, замкнутым, неистовым и в целом — невыносимым! Он мог быть по-настоящему жестоким, когда хотел, и самое незначительное происшествие превращал в драму. Он был очень требовательным другом, интерпретируя всё как доказательство пренебрежения или недостаток внимания к нему…
В один из его приездов в Париж случилась целая сага с мылом, стоившая нам трёх дней нависшего безмолвия и утомительных обвинений. Маяковский был помешан на чистоте, и смертельно боялся подхватить какую-нибудь заразу. Он мыл руки несчётное количество раз на дню.
Уезжая из дома, он брал с собой личное мыло, которое носил в кармане. Он купил этот, упакованный в специальную оловянную коробочку брикетик мыла в Берлине — немцы любят подобные практичные вещицы. Теперь он хотел другое — парижское. Я естественно должна была найти и купить его, так как он ни слова по-французски не говорил. Но я не могла нигде найти что-либо подобное — французы не слишком практичны. Продавались и брикетики мыла и похожие коробочки, но ни то ни другое не подходило друг к другу.
"Ты специально это делаешь", — настаивал Маяковский. "Ты знаешь, что я без языка, и тебе лень мне кусок мыла купить! Конечно, с моей стороны это чересчур, просить тебя о такой маленькой услуге… Что? Всё ещё без мыла? Ты не можешь даже попытаться найти мне кусочек мыла? Невероятно… Что ж, как хотите, мадам, я сам пойду и буду рыскать по улицам."
А в конце третьего дня пребывания не в духе: "Прощай. Без тебя обойдусь." Я неистово рыдала. Маяковский ушёл один и вернулся с красивой круглой алюминиевой коробочкой. Мне с трудом хватило сил сдержать своё ликование, наблюдая, как он моёт руки куском твердой зубной пасты фирмы "Жиппс". Он явно увидел когда-то это "мыло" в витрине, но вместо того, чтобы сразу купить его, решил испытать нашу дружбу.
С другой стороны однажды он выслушал меня до конца, когда я читала ему свою рукопись. Вот настоящее доказательство дружбы… Проза — слушать прозу! Я не думаю, что он когда-либо прежде делал подобное для других. С тех пор он начал давать мне советы о технике писания и прочих литературных вещах — некоторые из которых я позже нашла в его работе под названием "Как делать стихи". Как-то мы были в гостях, и я начала что-то рассказывать. Маяковский вдруг потянул меня за рукав и шепнул мне с миной заговорщика: "Молчи! Пригодится!" Я даже помню эту историю до мелких подробностей: я рассказывала, что в некоторых кинотеатрах Лондона кресла расставлены по парам специально для целующихся парочек, и чтобы предупредить их, что вот-вот включат свет, барышни-разносчицы, продающие сласти начинают очень громко выкрикивать "Шоколад! Шоколад!"
Маяковский хотел научить меня сдерживать язык и быть экономной с моими "запасами", если я хочу стать профессиональным писателем: "До сегодняшнего дня ты залезала в свои "запасы", чтобы писать, — если хочешь продолжать, ты должна начать их пополнять. Их нельзя транжирить".
И ещё я помню, что он говорил мне по поводу избитых эпитетов и слов, которые всегда используются в паре… Например, "королевская поступь", которые я, к сожалению, использовала в своей книге "На Таити", описывая местное население. "Если ты используешь слово поступь, зачем добавлять королевская?" — спрашивал он. "Я сразу представляю себе царя, у которого с длиннющей бороды стекает суп из капусты".
Глава VI
Маяковский впервые посетил Париж в 1922 году, когда я была в Берлине. Он описал свой опыт в газете "Известия" 6 февраля 1923 года:
Всюду появление живого советского производит фурор с явными оттенками удивления, восхищения и интереса (в полицейской префектуре тоже производит фурор, но без оттенков). Главное — интерес: на меня даже устраивалась некоторая очередь. По нескольку часов расспрашивали, начиная с вида Ильича и кончая весьма распространенной версией о "национализации женщин" в Саратове.
Если я была в Париже во время его приезда, то Маяковский поселялся в ту же маленькую гостиницу, в которой жила я. Поскольку он говорил только на русском и грузинском языках, то он не отпускал меня ни на секунду, пребывая в полной уверенности, что потеряется, будет обманут или подставлен без меня! Превращение таким образом в глухонемого, говорившего только на языке "триоле" (как он его называл), приводило его в бешенство. Его сводил с ума тот факт, что он не может убедить каждого встречного, что СССР — единственная страна, в которой стоит жить. Он злился, что не может понять, что думают или говорят французы, что у него нет возможности, как обычно, властвовать над всеми своими словами.
Должно быть, иностранцы меня уважают, но возможно, и считают идиотом — о русских я пока не говорю.
— Войдите хотя бы в американское положение: пригласили поэта, — сказано им — гений. Гений — это еще больше, чем знаменитый. Прихожу и сразу:
— Гив ми плиз сэм ти!
Ладно. Дают. Подожду — и опять:
— Гив ми плиз…
Опять дают.
А я еще и еще, разными голосами и на разные выражения:
— Гив ми да сэм ти, сэм ти да гив ми, — высказываюсь. Так вечерок и проходит.
Бодрые почтительные старички слушают, уважают и думают: "Вот оно, русский, слова лишнего не скажет. Мыслитель. Толстой. Север."
Американец думает для работы. Американцу и в голову не придет думать после шести часов.
Не придет ему в голову, что я — ни слова по-английски, что у меня язык подпрыгивает и завинчивается штопором от желания поговорить, что, подняв язык палкой серсО, я старательно нанизываю бесполезные в разобранном виде разные там О и Ве. Американцу в голову не придет, что я судорожно рожаю дикие, сверханглийские фразы:
— Ес уайт плиз файф добль арм стронг…
И кажется мне, что очарованные произношением, завлеченные остроумием, покоренные глубиною мысли, обомлевают девушки с метровыми ногами, а мужчины худеют на глазах у всех и становятся пессимистами от полной невозможности меня пересоперничать.
Но леди отодвигаются, прослышав в сотый раз приятным баском высказанную мольбу о чае, и джентельмены расходятся по углам, благоговейно поостривая на мой безмолвный счет.
— Переведи им, — ору я Бурлюку, — что если бы знали они русский, я мог бы, не портя манишек, прибить их языком к крестам их собственных подтяжек, я поворачивал бы на вертеле языка всю эту насекомую коллекцию…
И добросовестный Бурлюк переводит:
— Мой великий друг Владимир Владимирович просит еще стаканчик чаю.
(Как я её рассмешил, 1926)Старый друг Маяковского Бурлюк, которого исключили из художественного училища в одно время с Маяковским, был первым человеком, обьявившим Маяковского поэтом и гением и затем настаивавшим на том, чтобы Маяковский стал и тем и другим, чтобы не дать Бурлюку выглядеть лгуном.