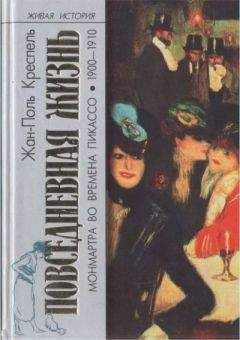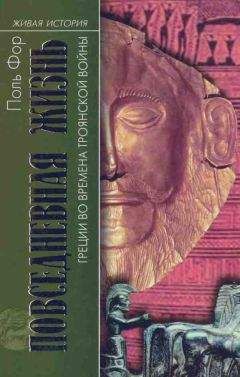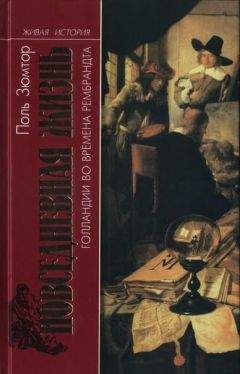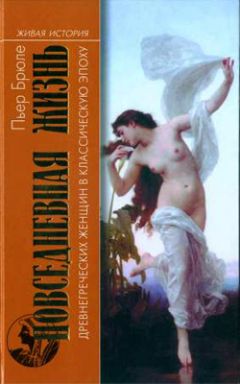Жан-Поль Креспель - Повседневная жизнь Монпарнаса в Великую эпоху. 1903-1930 гг.
В ноябре 1953 года«Клозри де Лила» отпраздновало свое сто пятидесятилетие. Разумеется, го роскошное заведение, что знаем мы с вами, не имеет ничего общего ни с первоначальным крохотным кабачком, разместившимся на стоянке дилижансов из Фонтенбло, ни даже с излюбленным кафе писателей и художников начала века.
Первые перемены произошли в нем уже в 1900 году в связи с Всемирной выставкой. Благодаря ей кафе превратилось в одно из самых приятных местечек Парижа, привлекавших как спокойной атмосферой, так и своей постоянной клиентурой.
Литераторы облюбовали его еще в то время, когда «Клозри» было пригородным кабачком. Здесь бывали Верлен, Стриндберг, Жан Ришпен, Оскар Уайльд, Поль Бурже… Громогласный Мореас, единственный, кто пережил те времена, остался верен старому кафе. Как отставной генерал от литературы - друзья даже прозвали его «Матамореас», - восседал он на молескине, с моноклем в глазу, с нафабренными и закрученными кверху усами а-ля Дали, с убежденностью полишинеля изрекая язвительные замечания, в окружении юных поэтесс, восхищавшихся им, и в то же время его побаивавшихся, и давал иронические советы молодому поколению: «Опирайтесь посильнее на принципы, - говаривал он… - и, в конце концов, они пошатнутся!»
Прожив долгое время на субсидии своего соотечественника - торговца оружием Василия Захарова, этот персонаж былой эпохи, рожденный под сенью Акрополя, если, конечно, так можно сказать про место, залитое беспощадным светом, вел жизнь, полную случайностей, сотрудничая в разных журналах, из-за их недолговечности постоянно находясь в затруднительном материальном положении, что старательно и с достоинством скрывал от других. Страдавший чем-то вроде мании к перемене мест, он сделался просто чемпионом по числу переездов. Безденежье заставляло его бесконечно выискивать жилье подешевле. В 1905 году он платил 175 франков в квартал, включая услуги, за маленькую квартирку на бульваре Брюна в новом доме. И это не мешало ему считать, что хозяин дерет с него семь шкур.
Но настоящим его домом было «Клозри де Лила», где он «священнодействовал» вместе с Полем Фором. Иногда его резкий голос перекрывал шум кафе: он принимался декламировать какой-нибудь из прославивших его стансов. А иногда, в легкомысленном расположении духа, запевал старую песенку, словно вспоминая бурную молодость, пришедшуюся на времена Второй империи:
У кого есть?
У кого есть?
У кого есть коко?
Ко в Тро, Тро в ко,
Коко в Трокадеро.
Никто не удивлялся его выходкам. В «Клозри» царила несколько странная атмосфера. Официанты и те изъяснялись в стихах. Знаменитый Исидор декламировал, поднося кофе:
Господину Мореасу принесу я кофе чашу!
Да, Мореас умел удивить словечком! Однажды, зайдя в зал в середине дня, он обвел взглядом посетителей и ушел со словами: «Никого нет!» А среди тех, кого там «не было», сидели Ленин и Троцкий… Этот случай, так веселивший Бурделя, который, кстати, сам жил на Монпарнасе с 1884 года, рассказала мне его дочь Родя. «Клозри» объявило траур, когда в конце марта 1910 года гемиплегия[12] унесла жизнь Мореаса. Сотни поэтов, художников и писателей провожали его в последний путь на кладбище Пер-Лашез. Аполлинер плакал горючими слезами. А через восемь лет проводили в последний путь и его…
Поэты журнала «Стихи и проза»
Менее громогласный, но не менее выдающийся Поль Фор оказывал еще большее влияние на литературных деятелей. В тридцать три года вместе с Андре Сальмоном он основал журнал «Стихи и проза» (название придумал Поль Валери, став душой журнала на двадцать два года). У этого нескладного человека все было черным: волосы, одежда, взгляд. Типичный надзиратель лицея перед дисциплинарным судом. Внешность обманчива: Поль Фор был на деле веселым и дружелюбным человеком, вокруг него в «Клозри» всегда складывалась очень приятная обстановка.
Кафе, куда он заходил каждый раз в час абсента, находилось в нескольких шагах от его жилища - бывшей мастерской Дирикса на улице Буассонад. Это странное помещение, разделенное на несколько «отсеков», предвосхищало планировку, через двадцать лет предложенную миру Ле Корбюзье. Один отсек он обустроил для себя с женой, другой - для дочери, будущей жены Джино Северини, третий - для своего племянника. Четвертый отсек служил рабочим местом Андре Сальмона, секретаря журнала «Стихи и проза». Здесь же часто появлялся Аполлинер, в самом начале ему - смешно сказать! - поручили подбирать рекламу. Днем из нескольких объединенных отсеков образовывалось свободное жизненное пространство, служившее одновременно и столовой, и кабинетом, и библиотекой.
Андре Сальмону случалось спать на диване в «журнальном отсеке», когда уж очень поздно заканчивался вечер в «Клозри де Лила» и не хотелось возвращаться на Монмартр, где возле кладбища Сен-Венсан находился его дом. Будущий историограф Монпарнаса, тогда еще шустрый юноша, несмотря на мефистофельское выражение лица, умел расположить к себе людей, будучи прекрасным рассказчиком. Мастер сенсационных материалов, поэт и журналист в одном лице, он без колебаний искажал информацию о событиях, участником или свидетелем которых являлся, ради результата, достойного самого крупного заголовка. Масштабы его вымыслов позволяют назвать Сальмона самым достоверным лжесвидетелем своего времени. Похоже, он специально подбирал неправдоподобные факты. К примеру, он мог написать, что на похоронах Модильяни, где он лично присутствовал, траурную процессию якобы возглавлял брат несчастного, Амедео, хотя прекрасно знал, что тот - депутат итальянского парламента - задержался в Риме из-за неотложных дел… Он мог утверждать, что первая выставка того же Модильяни прошла на улице Лафит у Берты Вейл, тут же воспроизводя приглашение, в котором в качестве адреса галереи значилась улица Тэбу… Или пуще того: дескать, Ренуар никогда не бывал в Италии, хотя всему свету известны написанный им в Палермо портрет Вагнера и знаменитые венецианские картинки… Фернанда Оливье, знавшая его по «Бато-Лавуар», где он занимал студию, расположенную над мастерской Пикассо, тонко проанализировала характер журналиста в своих воспоминаниях:
«Великолепный рассказчик, Сальмон преподносил скабрезные истории в самом изысканном ключе. Сильно отличавшийся от своих друзей - Гийома Аполлинера и Макса Жакоба, Сальмон обращал на себя внимание своим острым, изворотливым, тонким и проницательным умом; элегантный, язвительный, но в то же время любезный; как поэт он, возможно, был более сентиментален, чем другие. Мечтательный, на редкость восприимчивый, высокий, тонкий, изящный, с пронзительно умными глазами на слишком бледном лице, он казался совсем юным… Его длинные и тонкие пальцы в присущей только ему одному манере сжимали деревянную трубку, которую он непрестанно курил. Немного угловатые, неловкие движения выдавали застенчивость…»[13]
В 1909 году, после женитьбы на Жанно, чья шокирующая безобразная внешность вызывала молчаливое оцепенение в собраниях непосвященных, он покинул Монмартр и стал часто бывать в «Клозри де Лила», уже тогда авторитетном центре искусства и литературы. Остановившись поначалу в доме 3 по улице Жозеф-Бара, где уже жили Пер Крог, Кислинг и Паскен, два года спустя Сальмон переехал в богатый дом напротив - дом 6, где и прожил двадцать лет, наблюдая из своего бельэтажа «артистическую комедию», разыгрываемую в доме 3 с того момента, как там начал работать Модильяни, поселившись в квартире Зборовского, который заключил с ним контракт.
В 1912 году, после смерти Леона Дирикса, Поль Фор, всеобщее признание и славу которому принесли его «Французские баллады», избирается «Принцем поэтов» (этот не слишком остроумный титул когда-то придумали для Малларме). В этом звании ему предстояло оставаться почти пятьдесят лет. Его избрание совпало с пиком популярности «Клозри де Лила»; по вторникам после обеда, который устраивали себе в «Бати» самые обеспеченные, вокруг новоиспеченного «принца» собирался весь его двор. Роже Уайльд, один из приближенных, так вспоминает об этих «ассамблеях»: «Иногда по случаю «вторника Поля Фора» сюда стекалось до двухсот человек: писатели, музыканты, критики, художники, журналисты и комедианты. Впоследствии подобные собрания никогда больше не повторялись». Около двух часов ночи хозяин, мсье Комб, чье имя вызывало непрестанные шуточки в его адрес, выставлял за порог последних самых ярых любителей литературных споров. Припозднившаяся компания отправлялась через Буль-Миш в сторону Латинского квартала. Надо отметить, что ни Монпарнас, ни перекресток Вавен еще не обладали тогда своей магической притягательной силой.
В этих вторниках, объединявших весь литературный мир под воздействием крепких сортов абсента, лимонной водки, пикон-кюрасо и анисовки (мода на кофе с молоком установилась лишь во время войны) - изысканных ядов по двадцать сантимов за бокал - принимали участие самые выдающиеся литераторы предвоенного времени. Альфред Жарри, никогда не разлучавшийся с револьвером, приезжал на велосипеде из своего убогого жилища на улице Кассетт, вычурно именуемого «великой ризницей». Он обычно развлекался тем, что приводил в замешательство других; скажем, в «Клозри» он послал пулю в зеркало и, обращаясь к сидевшей рядом с ним девушке, произнес: «Ну, вот, лед[14] сломан, теперь можно и поговорить». Таким способом он перебарывал в себе робость, распознаваемую в нем очень немногими.