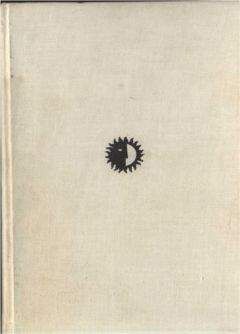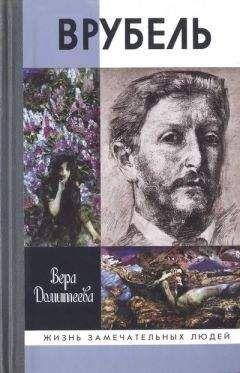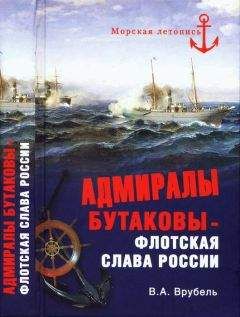Ирина Врубель-Голубкина - Разговоры в зеркале
С ним обращались так. Зильберштейн стал врагом, вытягивал у Харджиева хлебниковские материалы, у него бездна материалов, но ведь это Харджиев и так не отдаст. И ему тысячу раз предлагали заключить договор с «Библиотекой поэта», но он отказывался, не хотел, чтобы Степка (Степанов) писал статью, а сам он статей писать не хочет и не умеет. Во вступительных статьях есть темы, которых надо обязательно касаться, а он ведь эссеист. И за академические статьи он не брался, а со Степкой вместе он не хотел. И он, наивный ребенок, пишет проспект на два тома и отдает его Зильберштейну, а я работала над литнаследством, у меня там все свои, и я спросила у сотрудников, и мне ответили, что у них никогда в плане Хлебников не стоял. Они его просто обманули. А он уже заказывал Коме Иванову материалы для двухтомника и был очень этим вдохновлен, но получил фигу. Потом они с Зильберштейном долго ссорились, потом не виделись, уж очень у них общее поле деятельности было: оба коллекционеры.
А Н.Я. пришла в издательство «Искусство», когда книга о Маяковском еще не вышла, вместе с Сиротинской, заместительницей главного директора ЦГАЛИ, про которую Морозов говорил, что она главная гепеушница, хотя Волкова была главная и не скрывала этого, и подавала руку, как лопату. Н.Я. пришла с жалобой на Харджиева, что он украл архив Мандельштама. Морозов сам мне рассказывал: «Вы не знаете, с каким человеком она пришла». А потом Надя пошла у Харджиева вырвать архив Мандельштама. Сиротинская стояла внизу и ждала. Харджиев ей сказал: «Надя, я ведь вам говорил, что я верну архив по первому требованию». И выдал ей весь архив. И весь ее запал остался неиспользованным. Он немедленно написал редакторше из «Библиотеки поэта», кажется, Исакович ее фамилия, с которой, конечно, у него были лады, она была культурным человеком. Он написал письмо, что произошел скверный анекдот и он ничего больше делать не будет. То есть он ничего прибавлять не будет. А он хотел работать со мною, я ему могла помочь в текстах «Стихов о неизвестном солдате», прибавить что-то. А уже был семидесятый год. И таким образом Надя осталась, как она любила говорить, с раскрытым ртом – это дурацкое выражение, особенно «Осип с раскрытым ртом» – не вязалось как-то. Что делать. Через некоторое время Н.И. получает по почте письмо от Надьки со списком рукописей, которые он ей не сдал. На Н.И. было страшно смотреть, я очень боялась за него. У него не было этих рукописей, потом они у Н.Я. нашлись. И это известно, но она не сказала ему: «Я ошиблась, рукописи все тут». Она сочинила список рукописей, украденных Харджиевым.
И.В. – Г. Бедный Николай Иванович!
Э.Г.: И уже начиналось дело о наследстве Ахматовой. Это уже самый конец 60-х, к семидесятому году. Главных свидетелей было трое – Харджиев, Надежда Мандельштам и я. Ира Пунина нас безумно боялась, и, когда было назначено судебное заседание и мы приехали из Москвы, она распустила слух, что мы не приехали, так что суд не состоится. Это целая была эпопея, там разные были этапы. И тогда я приехала к Наде, а телефонов не было – у всех уже новые квартиры, поэтому я к ней приехала, естественно. Она говорит: «Ваш приезд – это поступок, это поразительно». Я говорю, что поразительного, телефонов нет, а надо поговорить: «Надя! Что вы делаете? Мы будем сейчас свидетельствовать и выдирать архив Ахматовой, а вы объявляете, что Николай Иванович – вор!» А Николай Иванович объявляет, что он не поедет туда, потому что ему могут из толпы кричать: «Вы сами вор!» «А Лева, – говорит Харджиев, – много он понимает в этом, он только что вернулся». Надя отвечает: «Что, мы сейчас же поднимем шум, устроим митинг».
Конечно, Николай Иванович не поехал. То есть он один раз был, но они сорвали заседание, не давали показаний. На повторном заседании меня спрашивали: «Вы подтверждаете то, что сказали в прошлый раз?» Я должна была попросить зачитать мои предыдущие показания, но я не догадалась.
И после получения этого списка, якобы того, что он ей не вернул, Николай Иванович сказал Наденьке: «Вы дрянь!» Она этого забыть не могла никогда! Бабаев же рассказывал всем, «каким дрянцом оказалась Н.Я.» (Бабаев – это «привлеченный мальчик» Ахматовой и Н.Я. из ташкентской эвакуации, Харджиева там не было. Это отдельная история, у меня есть рекомендательные письма, которые Надя писала мне о нем.)
Когда я к ней пришла, мы расцеловались, и, пока она распиналась о благородстве моего прихода, вдруг раздается стук в дверь, входит академик Гельфанд, у нее было их два – один Гельфанд, а другой тоже почти Гельфанд. У нее был круг математиков, физиков, только не по литературе. Они ничего не понимали, зато внимали каждому ее слову. Он приводит с собой 5–7 студентов, они боятся войти – тут такое божество! Я сижу с ней, обсуждаю с ней важнейшие вопросы, я специально приехала – она должна была сказать им, что она занята. Ну, она не может сделать этого, что такое я и что такое дело Ахматовой, когда пришли ее поклонники, которые приседают в реверансах – как им войти, куда уползти. Но в конце концов я помню это ощущение, как я с ней целовалась, очень неприятное, – мы все-таки как-то сговорились наспех, что мы едем все, это святое дело, это, конечно, не рукописи Мандельштама, но А.А. тоже не последнее лицо все-таки.
Когда Н.И. отдал ей полностью архив, она мне позвонила, и я помню полностью то, что она сказала: «Эмма, он поступил… Эмма! Он поступил как мужчина, он мне все отдал». Это был первый звонок, а второй звонок – она мне говорит: «Эмма, он вор, он меня обокрал!» Я говорю: «Надя, вы ведь мне обещали, что вы не будете муссировать это, у нас сейчас другая, очень важная задача». Она отвечает: «Я только обещала, что не буду подавать на него жалобу в Союз писателей». То есть такая грязь, с таким упоением она входила в эту роль! Она спрашивает: «А почему вы его защищаете?» Я ответила: «Потому что он мой друг и он был с вами другом, но если вы будете так о нем отзываться, то я вам не друг». В общем, я с ней поссорилась, и пять лет я с ней не разговаривала. «Он вор», и, хотя она не напишет в Союз писателей, она подаст в обычный суд, как с ворами полагается делать.
Все материалы уже давно были пересланы на Запад, и в Америке вышли три тома Мандельштама – какой есть, такой и издали. Ахматова была очень возмущена, как ее там издали, а Надя счастлива: во-первых, его имя стало известно на Западе, а во-вторых, она получила денежки. Тогда она стала писать свою вторую книгу, ее перевели на 17 языков, и она стала богатой женщиной. Она говорила: «Да, я хочу денег и вообще считаю, что за услуги надо платить». Потом у Харджиева была целая эпопея со Шкловским и комнатой, бесконечная история.
И.В. – Г.: И что она стала делать, когда разбогатела?
Э.Г.: Она стала подкупать людей, которые охотно на это шли. Самые близкие мои друзья меня предавали, говоря: «Смотри, какая добрая барыня Надежда Яковлевна». Такая психология. Она хотела, чтобы люди вычеркнули меня из своей жизни и истории.
Моя ближайшая подруга с гимназических времен Елена Константиновна Осьмеркина пробормотала Наде: «Что вы делаете с Эммой?», но сама тоже сразу замолкла. Что она могла сделать, если Надя водила ее дочек все время в «Березку» и всячески задаривала их?
И.В. – Г.: А как Анна Андреевна относилась к конфликту между Харджиевым и Н.Я.?
Э.Г.: Надежда Яковлевна ее все время подговаривала. А Н.И. уже теперь не тот. У него была история с первым браком с Нарбут. Вообще хватит ли мне жизни все это рассказать? Есть еще история со Шкловским, при начале которой я не присутствовала, тогда я не была с Н.И. знакома, и я тогда спросила Надю; она рассказала, что когда к ней приехала Анна Андреевна, тогда появился Н.И., она распустила волосы, потому что у нее началась мигрень, так как Харджиев без умолку рассказывал, какой Шкловский негодяй. И все-таки А.А. ответила Шкловскому, что она партии Харджиева, чем Шкловский был очень недоволен. И ему было почему быть недовольным. Как он говорил: «Жалоба на неправильно подаренную комнату», а он ее действительно подарил Харджиеву, но не ту, которую тот хотел. Ну, там масса интриг.
Но самая первая моя ссора с Надей, пятилетняя, была тогда из-за постановления о Зощенко и Ахматовой. Наденька сидела в Ташкенте и впервые приехала в Москву, она не могла оттуда выбраться, из Ташкента, там своя история – с ее дипломом, с ее предательством, но это другая история. Из Ташкента первая приехала Ахматова. Это был 44-й год, она была на вершине славы, у нее давно не было такой славы, только в молодости, а там ее опять подняли. Стихотворение «Мужество» было напечатано в «Правде», и все местное краевое начальство было очень довольно – великий поэт, чудесный. Так что она приехала такой барыней, чтобы немедленно выйти замуж за Гаршина, который ей написал письмо (вот это у русских так принято), что жена его умерла в блокаду и теперь он предлагает ей носить его фамилию Гаршин, – и Анна Андреевна согласилась. Можете себе представить – Анна Андреевна Гаршина! И она всем рассказывала, и тогда я поняла, как ее томила эта жизнь с Пуниными. Есть такие вещи, которые сам себе не говоришь, но, конечно, это двусмысленное положение ее терзало. Мне она сказала: «Эмма, я выхожу замуж». Мне это казалось смешным, ей было в 45-м году 56 лет, после всего, что было в ее жизни. Тогда трудно было звонить в Ленинград, и она просила: «Я три года не видела мужа, дайте мне позвонить ему». Когда она приехала на вокзал, он ее встречал, по дамской почте мне донесли, что племянник Гаршина покупал сервиз, чтобы ее принять. А ее сопровождал Адмони, и это уже была установленная в Ташкенте свита. Я думаю, что она всегда была в ужасном, жалком положении, а Гаршин ее поддерживал, был у ее ног. Он ее оставил больной, страдающей художницей. Левы нет. А тут приезжает дама в сопровожении профессора Адмони и переводчицы Сильман. И вот это ее свидание с мужем. Я не знаю, как это произошло, там подготовка была большая, участвовали подруги бывшей жены. И он отпрянул. Он сказал: «Нам надо поговорить. Куда вас отвезти?» Если бы писать пьесу, то она должна была дать ему по морде. Так Анна Андреевна, когда еще была невестой Гаршина, она проезжала Москву и передала мне мешочек из мягкой ткани и сказала: «Это вам от Нади», и там мятые-перемятые рукописи Мандельштама, которые Надя назначала мне хранить. А Лева, с которым я переписывалась тогда и раньше, когда он был на фронте, был арестован, письма, конечно, перлюстрировались, а у него было неприятностей больше, чем я знала. И у меня было недовольное лицо, я сказала: «Спасибо», но подумала, что меня все-таки нужно спросить, она ведь не знала, в какой я сейчас ситуации, у меня умер отец. А.А. спросила: «Что вы недовольны?» А Нади нет, никакого письма я не могу написать, у меня эти рукописи в ужасном виде, у меня квартира в ужасном виде и ничего нет – ни бумаги, ни лупы, – чтобы их разглядеть, но я все-таки кое-как с ними вожусь и начинаю в них влюбляться, естественно. А Надя приезжает в начале лета, в июне 1946 года. Два года у меня эти рукописи лежат. Она приходит с важным видом, она мещанка страшная была. «Я приехала за рукописями». Я ей отвечаю: «Какая в этом срочность? Я над ними работаю». Она говорит: «Ну, тут целая очередь стоит, и дочь Ивича (дочь Ивича тогда была подростком, насколько потом я выяснила). Отдайте рукописи». Я стала говорить: «Оставьте», и все такое. Потом я задумалась, что у меня очень сыро и течет со стен. Надя: «У всех сыро, у всех течет». И она уехала на дачу, на свои деньги, которые у нее были, она там очень хорошо устроилась при помощи поклоняющихся ей друзей, которых она потом обокрала, каждого из них, своих товарищей.