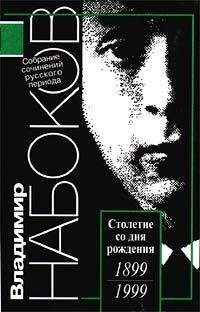Николай Мельников - О Набокове и прочем. Статьи, рецензии, публикации
Болезненное переживание разлада между творческой личностью и миром, «чуткость к омертвению, охватывающему все большие слои культурных тканей»72, «коллективное уныние» монпарнасцев – для Набокова, как и для его литературного союзника Владислава Ходасевича, все это было лишь мазохистской демонстрацией собственной творческой неполноценности, опасной – и порядком поднадоевшей – игрой в декаданс, «сладострастным смакованием безнадежной обреченности», «сознательным, хоть надрывным и истерическим растрачиванием какой бы то ни было веры во что бы то ни было – прежде всего веры в <…> поэзию»73. Вспомним, какую уничижительную оценку дал Набоков русскому Монпарнасу в «Других берегах»: «В этом мирке, где царили грусть и гнильца, от поэзии требовалось, чтобы она была чем-то соборным, круговым, каким-то коллективом тлеющих лириков, общим местом с наружным видом плеяды…»
Весьма скептически Набоков относился и к мистико-религиозным исканиям монпарнасцев, с их «метафизическим беспокойством» и «религиозной напряженностью духа». Несмотря на то что тема «потусторонности», тайного знания «какой-то абсолютной правды, разящей величием и при этом почти абсолютной в силу высшей своей простоты» проходила через все творчество Набокова и напряженное чувство сверхреального одухотворяло лучшие его произведения (прежде всего «Приглашение на казнь» и «Ultima Thule»), писатель с нескрываемым сарказмом отзывался о «чересчур стройных» мистических видениях, отличавших творчество многих монпарнасцев (особенно, конечно, Бориса Поплавского).
Подчинение художественных произведений прямолинейным решениям сложнейших метафизических проблем, самоуверенно-фамильярные рассуждения о «горних делах» или сомнительные откровения о мистическом сопереживании «мировому Абсолюту» неизменно вызывали у Набокова глухое раздражение, которому он давал выход в язвительных литературных пародиях на оккультную литературу, на туманные пророчества счастливцев, находящихся в коротких отношениях с влиятельными потусторонними деятелями (рассказы «Занятой человек» и «Сестры Вейн», отчасти – повесть «Соглядатай»), или в своих задиристых рецензиях довоенного периода, например, в уже упоминавшемся отзыве на «свободный сборник» монпарнасцев «Литературный смотр»: «Попытки Терапиано, Кельберина и Мамченко разрешить побольше метафизических задач с наименьшей затратой мысленной энергии литературными достоинствами не богаты; зато в этих горних облаках ютится самая дрянная злободневность, вроде того, как альпинист находит на казавшейся неприступной скале рекламу автомобильных шин»74.
Стоит привести и характерный ответ, данный Набоковым в одном из интервью на лобовой вопрос: «Верители вы в Бога?»: «Я знаю больше того, что могу выразить словами, и то немногое, что я могу выразить, не было бы выражено, не знай я большего».
Со своей стороны Набоков («чудовище» – по известному бунинскому определению) не мог не отталкивать «парижан» намеренно вызывающим поведением своей «литературной личности», старательно выстраивавшимся в соответствии с типом литературного поведения, выработанным в европейской литературе к концу XIX века. Экстравагантный – и несколько архаичный для двадцатых–тридцатых годов нашего столетия – имидж «чистого художника», отрешенного от «мерзкой гражданской суеты» (выражение Германа Карловича, главного героя и одновременно набоковской автопародии из романа «Отчаяние»), стоящего «выше мира и страстей» и глубоко равнодушного к «радостям и бедствиям человеческим», не мог не раздражать монпарнасцев, воспитанных Адамовичем в духе неприятия малейшей искусственности и «игры» как в творчестве, так и в литературном поведении. Мечтая о полном слиянии жизни и творчества, стремясь «расправиться <…> с отвратительным удвоением жизни реальной и описанной» (Б. Поплавский), монпарнасцы (да и не только одни они) никак не могли разглядеть за малоприятным набоковским имиджем капризного эстета и сноба, с неизменным презрением отзывающегося о своих литературных предшественниках и писателях-современниках, истинное творческое «я» писателя, которое реализовывалось в конкретных литературных произведениях, причем зачастую вопреки его же броским эстетическим декларациям и мировоззренческим принципам (особенно явно – в повести «Соглядатай» и романе «Отчаяние», где «безыдейный формалист» и «бездушный эстет» обратился к нравственно-философской проблематике русских классиков XIX века, в том числе и ненавистного ему Ф.М. Достоевского).
Эстетизм Набокова, с его пониманием искусства и литературы только как забавной, ни к чему не обязывающей игры, та роль, которую Набоков – в оглядке на Оскара Уайльда и Нормана Дугласа – прилежно исполнял на протяжении всей писательской карьеры (с особым рвением и целеустремленностью – в поздний период своего творчества, в эпоху «Ады» и «Твердых суждений»), взгляд на художественное творчество как на сочинение «причудливых загадок с изящными решениями», – всё это не могло не раздражать и главного застрельщика разбираемого нами конфликта, Георгия Иванова. Отдав в свое время – в эпоху «директориата» эгофутуризма и гумилевского «Цеха поэтов», «Бродячей собаки» и «Привала комедиантов», «Отплытья на о. Цитеру» и «Горницы» – немалую дань идеям «чистого искусства», в эмиграции, во время своего «судорожного перерождения» из искусного мастера, автора игриво-декоративной лирики, воспевающего «мечтательные закаты Клода Лоррена» или «легкие созданья Генсборо», в певца эмигрантской трагедии, «поэта Великого Русского Распутья» (К. Померанцев)75, обладающего «гениальным даром интимности» и «талантом двойного зрения», умеющего «тихим шепотом, почти на ухо сказанным, прорезать человека как бритвой» (Р. Гуль)76, Георгий Иванов преодолел, перерос свой юношеский эстетизм, более того, язвительно высмеял былые идеалы в гениальном «Распаде атома» (о котором, как мы помним, с таким пренебрежением отзывался Набоков). Выступив в «Распаде атома» с «рискованным манифестом на тему умирания современного искусства»77, вдоволь поиздевавшись – при поддержке комичных зверьков-размахайчиков – над «массовым петербургским эстетизмом», Иванов открыто полемизировал в своей поэме с Владимиром Набоковым: «Я завидую отделывающему свой слог писателю, смешивающему краски художнику, погруженному в звуки музыканту, всем этим, еще не переведшимся на земле людям чувствительно-бессердечной, дальнозорко-близорукой, общеизвестной, ни на что уже не нужной породы, которые верят, что пластическое отражение жизни есть победа над ней. Был бы только талант, особый творческий живчик в уме, в пальцах, в ухе, стоит только взять кое-что от выдумки, кое-что от действительности, кое-что от грусти, кое-что от грязи, сравнять все это, как дети лопаткой выравнивают песок, украсить стилистикой, как глазурью кондитерский торт, и дело сделано, все спасено, бессмыслица жизни, тщета страданья, одиночество, мука, липкий тошнотворный страх – преображены гармонией искусства».
«Отделывающий свой слог писатель», твердо верящий в то, что «пластическое отражение жизни есть победа над ней»78, – это, конечно, собирательный образ. Однако многое в нем напоминает Набокова, его «литературную личность». По крайней мере – набоковский (сиринский) тип литератора, к которому автор «Распада атома» относится с горько-ироничной насмешкой: «Блаженны спящие, блаженны мертвые. Блажен знаток перед картиной Рембрандта, свято убежденный, что игра теней и света на лице старухи – мировое торжество, перед которым сама старуха ничтожество, пылинка, ноль. Блаженны эстеты. Блаженны балетоманы. Блаженны слушатели Стравинского. Блаженны тени уходящего мира, досыпающие его последние, сладкие, лживые, так долго баюкавшие человечество сны».
Я не случайно дал такую большую цитату: этот отрывок лишний раз подтверждает нашу догадку о том, что одним из главных прообразов представителя «чувствительно-бессердечной» породы был Владимир Набоков (Сирин). Дело в том, что в этом фрагменте иронично обыгрывается концовка одного из ранних набоковских рассказов «Драка» (1925), риторический вопрос, обращенный героем-повествователем, случайным свидетелем кровавой потасовки в берлинской пивной к самому себе и к нам, читателям, – всего одна фраза, которая тем не менее является ключом ко всему эстетическому мировоззрению писателя, наиболее полным и открытым выражением (в русскоязычном творчестве) его «литературной личности»: «А может быть, дело вовсе не в страданиях и радостях человеческих, а в игре теней и света на живом теле, в гармонии мелочей, собранных вот сегодня, вот сейчас единственным и неповторимым образом».