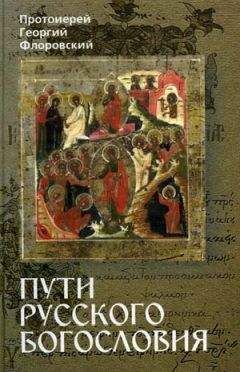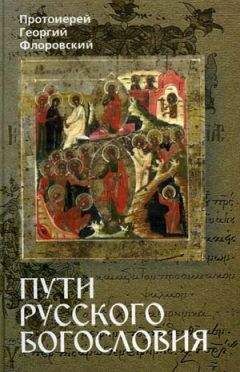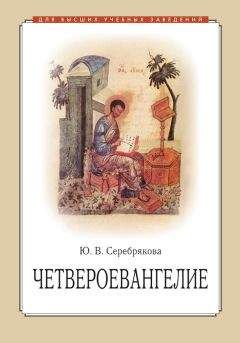Павел Хондзинский - Ныне все мы болеем теологией. Из истории русского богословия предсинодальной эпохи
С такой силой что мог поделать даже Аввакум? Победить ее знанием Писаний? Знал и Никон. Терпением страданий? Терпел и Никон. Исцелениями? Исцелял и Никон. И Никон мог, говоря словами Шекспировой драмы, если надо, «пить уксус, крокодилов есть». Здесь им было не победить друг друга. Но на стороне Никона оказался царь, и, кажется, именно это решило все.
Последнему предположению вовсе не противоречит известие о царском суде над Никоном, вследствие которого тот лишился патриаршего сана. Царь любил и Никона, и Аввакума: как мог щадил последнего[202] и посылал Никону в ссылку подарки. Но выбор его был вполне последователен, и это был выбор в пользу истории. О том, что Никон своими реформами пытался сделать шаг в эту сторону, уже говорилось выше. Но «римская идея» по-прежнему не оставляла патриарха. За Третьим и Вторым Римом он угадывал Рим Первый, в котором папа владычествовал по «дару Константина». Известно ведь, что именно Никон ввел в Кормчую «Грамоту императора Константина к папе Сильвестру»[203].
Согласно Никону, «дар Константина» переходил к московским патриархам[204] как патриархам Третьего Рима. Но на самом деле в его посылках было внутреннее противоречие. С одной стороны, утверждалось, что священство выше царства и что царство получает от священства свои полномочия, а не наоборот; с другой – судя по тексту грамоты, римский первосвященник получал полномочия «властелина над всеми архиереи и священники, иже по всей Вселенней» именно от императора.
Царь же, очевидно, вполне здраво рассудил, что распоряжается привилегиями тот, кто дает их, и эта реальная историческая логика вооружила его против Никоновой «римской метафизики».
Итак, и в случае с Аввакумом, и в случае с Никоном царь действовал вполне последовательно, и надо думать, что в обоих случаях его выбор был правильным не только в политическом, но и в духовном смысле[205]. Действительно, сохранив много драгоценных для нас памятников церковной истории и культуры, старообрядчество в то же время оказалось поразительно бесплодно в святости[206]. И в свою очередь если последовательный культурный латинизм был естественным следствием западной миссии, то эллинизм, к которому стремился Никон, не мог однажды не вступить в противоречие с самими основаниями «инкарнационной» миссии Востока, предполагавшей мистическое единство Церкви, но не альтернативный по отношению к pax romana pax graeca с Никоном-«папой» во главе[207].
Как бы то ни было, быть может, именно царь Алексей Михайлович одним из первых обнаружил в XVII веке так ярко сказавшуюся потом «всемирную отзывчивость» русской души. Он не только любил Аввакума и ценил Никона, но его покровительством равно пользовались и столь несхожие личности, как старец Епифаний Славинецкий и Симеон Полоцкий.
Первый, как известно, прибыл в Москву по личному вызову царя, действовавшего, надо полагать, в совете с Никоном. О киевской жизни Епифания не сохранилось почти никаких сведений. Считается, что он учился в братчиковой школе еще до преобразования ее святителем Петром Могилой, где выучил греческий язык – впрочем, скорее разговорный, чем литературный[208], – во всяком случае, строгих правил греческой грамматики он не знал. Вероятно, он учился также и на Западе, где почерпнул знание латыни. Вообще он имел вкус к филологии, о чем свидетельствуют составленные им лексиконы, в том числе греко-славяно-латинский. Его грекофильство отличалось от Никонова тем, что он пришел к нему не от отвлеченной идеи, но от чтения святых отцов и убеждения в истинности их учения. По его словам, он достаточно долго увлекался латинскими книгами, не зная еще писаний отцов, но когда, «озарився благодатию Св. Духа», начал читать «греческия книги, тогда, лесть латинскую познав, и в писаниях их новшество и блуды их разумех…»[209].
На Москве Епифаний правил богослужебные книги, переводил, причем не только святых отцов, но и светских авторов, и начал работу над новой редакцией славянской Библии, но не успел довести ее до конца. Не умаляя значения его трудов, стоит заметить, что в них, уже на филологическом уровне, обнаружилась невозможность прямого следования за греками и необходимость выработки собственной богословской традиции. Пиетет Епифания перед греческим языком был столь велик, что, переводя, он зачастую совершенно не считался с особенностями и внутренней логикой славянского языка, что делало его переводы достаточно невразумительными[210]. Это, впрочем, не помешало ему сыскать у современников славу ученейшего мужа. Кроме того, Никон официально возложил на него обязанности проповедника – новые для Москвы. В отличие от большинства современников, он не был полемистом. Даже к раскольникам Епифаний обращался не с обличениями, а с увещанием от лица матери-Церкви: «Я не дам вам камня вместо хлеба, не подам змию и скорпию вместо рыбы… Не ищите врачей неискусных, убивающих паче, нежели врачующих души, но ищите духовнаго врачества от богоданных вам пастырей»[211].
Будучи человеком книжным и далеким от политической борьбы, он чуть ли не единственный бесстрашно выступил в защиту Никона на Соборе 1660 года, доказывая, что, несмотря на самовольный уход с патриаршества, за ним надо оставить архиерейское достоинство и право священнодействия[212].
Сочинения его в большинстве своем так и остались ненапечатанными, и, судя по всему, смиренный «ученейший» Епифаний ничего не предпринимал для их публикации: изложить на бумаге мысль для него было важнее, чем озаботиться ее распространением в обществе[213].
Иным был Симеон Полоцкий[214]. В Москву он явился в 1663 году сам, то ли опасаясь польских властей, то ли «со смелою мыслью добыть себе кусок хлеба умственным трудом…»[215]. Он был моложе Епифания и учился уже в Могилянской академии, откуда вынес знание латинского языка[216] и семи свободных наук, умение полемизировать на любые темы[217] и позволяющее добиваться поставленных целей самообладание[218]. На основании этой характеристики было бы неверно, однако, считать его просто удачливым авантюристом. Симеон был человеком верующим, молитвенным[219] и имел свои убеждения, главное из которых сводилось к необходимости просвещения на Руси[220] и необходимости бежать от соблазнов мира. Правда, проповедь пустынного жития не мешала ему часто напоминать царю о своей собственной «худости» и нищете, хотя жил он вовсе не бедно…
(Ненадолго отвлекшись, можно было бы напомнить в связи с этим о другой удивительной личности того же времени – Адаме Зерникаве. От него тоже осталось жизнеописание, «составленное им самим», только жанр здесь совсем другой: не житие, как у Аввакума, и не дневник-летопись, как чуть позднее у святителя Димитрия, но скорее классический авантюрный роман. Его родиной был Кенигсберг, а сам он – лютеранином, сыном золотых дел мастера из Голштинии. Рано оставшись сиротой, он решил все же не бросать учения и поступил в так называемую Альбертинскую академию. Там от своих профессоров он узнал, что учение древней Церкви далеко не всегда согласно с мнением Лютера и что достоверным критерием богословской истины может почитаться только согласие отцов и догматические определения Вселенских Соборов. Немного позже в одной из книг он нашел рассуждение о пользе жизни за пределами родины, так как в чужих краях подчас гораздо более ценится то, на что дома не обращают внимания. Приняв эту мысль не только к сведению, но и к исполнению, он после тщательных размышлений остановился на России как стране, особо нуждающейся в ученых людях. Единственное препятствие к исполнению задуманного виделось ему в различии вероисповеданий, и он решил принять православие, но отложил этот шаг до того времени, как изучит в должной мере отцов Восточной Церкви, а пока, чтобы не терять время, занялся наукой о государстве, математикой, геометрией, астрономией, военной архитектурой и астрологией. Желая усовершенствовать свои знания, он посетил еще Англию, Францию и Италию, везде помимо работы в библиотеках осваивая национальный язык. За это время он окончательно убедился в правоте Восточных и стал составлять комментарии в пользу православного учения об похождении Святого Духа, а также сочинил трактат de excidio Turcicae tyrannidis («Об уничтожении турецкой тирании»). Наконец, заручившись от знакомого православного священника рекомендательными письмами к архиепископу Черниговскому, он прибыл в Россию, точнее, в Малороссию. Владыка Лазарь (Баранович)[221] не счел нужным заново крестить его и принял через миропомазание, вменив в положенное по чину отречение от заблуждений письменно поданное Зерникавом исповедание веры. Вскоре военными познаниями пришельца заинтересовался гетман, отказавшийся отпускать его в Москву, – это был первый удар по честолюбивым мечтам Зерникава, надеявшегося занять высокое место при московском дворе и даже, может быть, жениться на дочери вельможи[222]. Однако еще большее разочарование вызвала у него Москва, когда он все же попал в нее. Несмотря на его выдающиеся способности и познания, никто всерьез не обратил на него внимания[223]. Вернувшись в Малороссию, он пытался жениться, но неудачно. Вместе с мечтами о богатстве и славе в его записках встречаются не раз искренние сокрушения о грехах (вероятно, плотских), из-за которых ему однажды не удается даже причаститься на Пасху[224], а также не менее искреннее убеждение в необходимости со смирением повиноваться воле Божией[225]. Его главный богословский труд «Об исхождении Святаго Духа от Одного только Отца» построен на принципиальной посылке: «При исследовании какого-нибудь догмата кафолической Церкви прежде всего и главным образом следует иметь в виду согласное учение о нем св. отцов»[226], – а основным тезисом автора, который он неоднократно пускает в ход на протяжении всей книги, является мысль о необходимости различения между внутренними и внешними действиями Божиими, первые из которых суть личная принадлежность каждой из Ипостасей, тогда как вторые едины для всей Троицы. Уже Феофан Прокопович восхищался этим трудом и сожалел, что ничего не знает о жизни его автора[227]. Но, несмотря на многие достоинства сочинения Зерникава, так навсегда и останется загадкой, было ли оно написано им по духовной потребности или (наподобие его военных трудов) лишь в надежде славы и успеха в бедной учеными умами России. Записки его обрываются на полуслове[228], и точно так же теряется в неизвестности его жизнь. Принято думать, что он окончил ее монахом Киево-Печерской Лавры, но ни года его кончины, ни его монашеского имени никто не знает…)