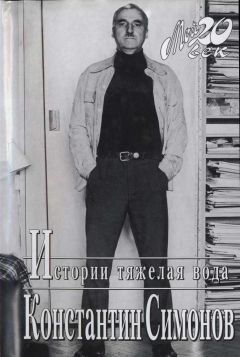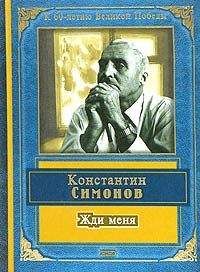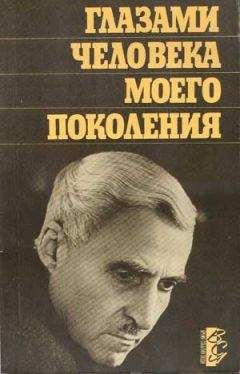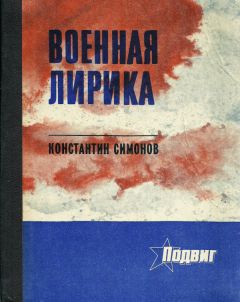Константин Симонов - Истории тяжелая вода
Пьеса была послана Жданову не то в апреле, не то в мае сорок восьмого года. Месяцев восемь о ней не было ни слуху ни духу.
Я не напоминал о ней, не хотел, да и не считал возможным. Жданов заболел, потом умер. Я бросил думать о пьесе, обрубил все связанное с нею в памяти еще раньше, еще летом. Все время, остававшееся у меня свободным от работы в Союзе писателей и в «Новом мире», занимался новой книгой стихов «Друзья и враги», которую писал с таким же или почти с таким же увлечением, как «Дым отечества». Чем дальше, тем сильнее было ощущение, что я как бы перешагнул через эту пьесу. Шагнул прямо из «Дыма отечества» в книгу стихов, и бог с ней, с этой «Чужой тенью».
Но в один из январских дней сорок девятого года, когда я вечером сидел и работал в «Новом мире», неожиданно вошел помощник редактора «Известий» — «Новый мир» тогда помещался во флигеле, примыкавшем к редакции «Известий», — и сказал, что к ним в редакцию звонил Поскребышев и передал, чтоб я сейчас же позвонил товарищу Сталину. Вот номер, по которому я должен позвонить. Я было взялся за телефон, но, сообразив, что это номер «вертушки», которой у меня в «Новом мире» не было, пошел в «Известия». Редактора «Известий» то ли не было в кабинете, то ли из деликатности он вышел — я оказался один на один с «вертушкой». Я снял трубку и набрал номер — не помню уже сейчас, что сказал Сталин: «Сталин слушает» или «Слушаю», что‑то одно из двух. Я поздоровался и сказал, что это звонит Симонов.
Дальнейший разговор с одним пропуском, который я дополню, я записал, вернувшись в редакцию «Нового мира». Записал, думаю, абсолютно точно. Вернее, это был не разговор, а просто то, что считал нужным сообщить мне Сталин, прочитавший «Чужую тень». Вот она, эта запись:
«Я прочел вашу пьесу «Чужая тень». По моему мнению, пьеса хорошая, но есть один вопрос, который освещен неправильно и который надо решить и исправить. Трубников считает, что лаборатория — это его личная собственность. Это неверная точка зрения. Работники лаборатории считают, что по праву вложенного ими труда лаборатория является их собственностью. Это тоже неверная точка зрения. Лаборатория является собственностью народа и правительства. А у вас правительство не принимает в пьесе никакого участия, действуют только научные работники. А ведь вопрос идет о секрете большой государственной важности. Я думаю, что после того, как Макеев едет в Москву, после того, как карьерист Окунев кончает самоубийством, правительство не может не вмешаться в этот вопрос, а оно у вас не вмешивается. Это неправильно. По — моему, в конце надо сделать так, чтобы Макеев, приехав из Москвы в лабораторию и разговаривая в присутствии всех с Трубниковым, сказал, что был у министра здравоохранения, что министр докладывал вопрос правительству и правительство обязало его, несмотря на все ошибки Трубникова, сохранить Трубникова в лаборатории и обязало передать Трубникову, что правительство, несмотря на все совершенное им, не сомневается в его порядочности и не сомневается в способности его довести до конца начатое им дело. Так, я думаю, вам нужно это исправить. Как это практически сделать, вы знаете сами. Когда исправите, то пьесу надо будет пустить».
После этого, помнится, было не записанное мною «До свидания», и разговор на этом кончился.
Пропуск в начале этой записи сделан был мною тогда из соображений такта. С записью разговора все могло случиться, вдруг мне придется ее кому‑то показать, хотя в принципе я этого не собирался делать, но все‑таки могло случиться. А Сталин в начале разговора, сказав, что он прочел мою пьесу, довольно раздраженно добавил:
— Только вчера получил и прочел, полгода не сообщали, что она там у них лежит, и вообще… — тут он остановился, видимо, решив не продолжать эту тему, вернувшись к разговору о самой пьесе, записанному мною.
Я подумал тогда и думаю так и сейчас, что Жданов или по каким‑то причинам, ему ведомым, или по не ведомым мне сложившимся обстоятельствам — а обстоятельства в последние месяцы жизни у него, кажется, были сложные — не говорил или не имел случая сказать Сталину о том, что получил на прочтение мою пьесу, или не считал нужным это делать. Надо полагать, что пьеса попала к Сталину после того, как ему доложили об оставшемся после смерти Жданова архиве и представили опись этого архива. И в тех словах, которые я слышал по телефону, присутствовало раздражение — не знаю, на покойного ли Жданова, может, и на Поскребышева, который знал о моей пьесе, но тоже не счел нужным сказать о том, что она была мною послана.
Я привел эту незаписанную часть разговора, потому что в ней присутствуют тоже некоторые черточки для характеристики Сталина — и в его раздражении на то, что ему сразу не доложили о чем‑то, к чему он когда‑то имел прямое касательство, и в его словах: «Вчера получил и прочел». Записав сразу содержание разговора и перечитав его два или три раза, я понял, что, во — первых, в нем изложено не просто мнение о пьесе, а почти текстуальная программа переделки ее финала и, во — вторых, именно это, не откладывая в долгий ящик, мне предстоит сделать.
Надо сказать, что при той жесткости постановки вопроса о низкопоклонстве и преклонении перед заграницей, которая тогда существовала, я сам бы не решился закончить пьесу тем, что предложил Сталин. Кончалась она у меня по — другому, гораздо хуже для героя пьесы профессора Трубникова, который, по своему честолюбию, соединенному с доверчивостью, чуть было не сделал достоянием тех, кому это вовсе не следовало знать, научный секрет государственной важности. Над ним в конце пьесы висел дамоклов меч, и оставалось неизвестным, чем все это для него кончится. Предложение Сталина, видимо, отражало какие‑то складывавшиеся у него в тот момент настроения; говоря «правительство», он в третьем лице разумел себя и таким образом выносил по отношению к Трубникову то мягкое и полное доверия решение, которого, казалось бы, трудно было ожидать от Сталина, тем более в связи с этой проблемой.
Откровенно говоря, такой поворот в финале пьесы был мне по душе. Раз сам Сталин прощал Трубникова в пьесе за то, о чем он говорил, когда дело касалось реальной жизни, с такой нетерпимостью, я тем более готов был изменить к лучшему судьбу своего героя. Мне даже почудилось за этим предложением Сталина, за этим разговором с ним какое‑то предстоящее смягчение крайностей в том вопросе, который рассматривался в пьесе. Крайностей, которые чем дальше, тем больше беспокоили совесть многих людей нашего поколения, в том числе и мою совесть.
Увы, почти в те же самые дни мы получили наглядное подтверждение, что это не так. Но обо всем этом я расскажу позже, а сейчас о том трагикомическом аккорде, которым закончилась история с моей пьесой «Чужая тень».
Я сделал в финале пьесы исходившие от Сталина поправки, которые, повторяю, были мне по душе, сделал их буквально за один день, пьесу успели напечатать в первом, январском номере журнала «Знамя», после чего она была вместе с другими пьесами выдвинута, уже не помню кем — комиссией по драматургии или журналом, — на Сталинскую премию. Этого, будучи в отлучке, я не знал и попал прямо на секретариат Союза писателей, на котором предварительно, до начала заседания Комитета по Сталинским премиям, обсуждались произведения, выдвинутые теми или другими литературными организациями на Сталинскую премию.
Среди других выдвинутых вещей я увидел и название своей пьесы. Не мое дело было что бы то ни было говорить на эту тему.
В дальнейшем я иногда набирался решимости и писал, как это было, скажем, с романом «Товарищи по оружию», что прошу снять роман с обсуждения. Но в данном случае при сложившихся обстоятельствах я не мог говорить ни за свою пьесу, ни против нее, мне оставалось только молчать. А между тем некоторые из присутствовавших на секретариате моих коллег стали довольно резко выступать не столько против пьесы в целом, сколько против ее неправильного, слишком мягкого, слишком либерального, по чьему‑то выражению, даже чуть ли не капитулянтского конца. Одни говорили, что Трубников непременно должен быть наказан на глазах у зрителя; другие предлагали сделать так, как у меня и было вначале, — чтобы над ним в финале продолжал висеть дамоклов меч будущего возмездия. Но с тем, чтоб правительство его простило, выступавшие были решительно не согласны и считали, что такой конец пьесы никак не позволяет выдвигать ее на Сталинскую премию. Я сидел и молчал, чувствуя всю глупость и собственного, и чужого положения. О своем разговоре по телефону со Сталиным по поводу пьесы я никому до тех пор не говорил, считал для себя неловким ссылаться на это и даже не видел за собой такого права. В журнале и в театре, куда я передал пьесу для постановки, я сказал только, что если возникнут какие‑либо препятствия, то пусть обратятся по этому вопросу в ЦК и поступят соответственно тому, что там будет сказано. Но препятствий не возникло, и в ЦК никому обращаться не пришлось. Затруднительное положение возникло лишь в этот момент на секретариате. Затруднительное и даже, называя вещи своими именами, довольно глупое. Я сидел и молча слушал, как мои коллеги бичевали либерализм Сталина, проявившийся в финале моей пьесы. Очевидно, ждали моих возражений, но их не последовало. Удивленный моим молчанием, Фадеев даже спросил меня: «Ну, а что ты скажешь?» Я сказал, что, поскольку речь идет о моей пьесе, мне, наверное, ничего говорить не следует и я ничего говорить не буду.