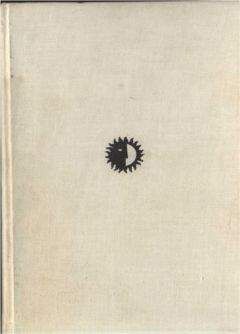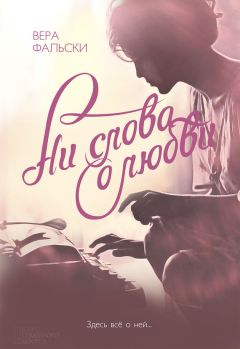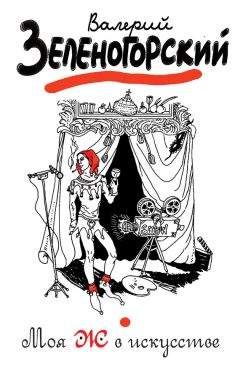Вера Домитеева - Врубель
Зато «несколько слов о гимназии» — подробное, эмоциональное повествование. Которое — именно в плане своеобразия творческих импульсов Врубеля — стоит прочесть серьезно и внимательно. Даже полудетские сетования на то, что латинист, «наш знаменитый латинист Опацкий», не сочувствуя явно возросшему рвению учеников, «ужасно придирчив», тогда как сам инспектор «очень лестно отозвался о прилежании седьмого класса».
К вопросу об уровне преподавания отметим, что Станислав Флорианович Опацкий (известный филолог, автор гимназических учебников по латинскому синтаксису, а также трудов, посвященных сатирам Ювенала и литературной деятельности Плиния Младшего) был знаменит далеко за пределами одесской Ришельевской гимназии, позднее он стал профессором Казанского университета. Надо пояснить и то, почему особенно важным стало прилежание семиклассников. Как раз тогда образование в классических гимназиях официально было признано недостаточным, новым министерским циркуляром вводился восьмой класс и аттестат зрелости. Точнее, увеличенная исключительно за счет классических языков (удваивалось число уроков латинского, появлялся другой, равный по важности древний язык — греческий) программа седьмого класса была разделена на два учебных года и к обучению во втором, выпускном, допускались лишь лучшие из лучших.
Врубель учился блестяще. Шел в своем классе первым. И увлекался не только словесностью, где, как легко догадаться по эпистолярному стилю гимназиста, его огромным, на десятки страниц, сочинениям был обеспечен заслуженный успех. Не только историей, по которой, как вспоминает сестра, писал «сверх нормы, большие сочинения на темы из античной жизни и средневековья». Не только латинскими классиками, которых со своим переводом любил вслух читать сестре на каникулах. Точные науки тоже отнюдь не отвращали ученика с развитым логическим аппаратом и гибкой памятью.
Однако где ж такое видано, чтобы начинающий юный художник сокрушался о недостатке учебных часов, положенных на геометрию, алгебру, тригонометрию и космографию? И сколь восторженно излита в письме благодарность учителю физики за то, что тот, лишенный на уроках времени для наглядных опытов, «позволил являться нам по воскресеньям в физический кабинет, где нам их и показывает, а также объясняет более трудные статьи». Своеобразные удовольствия школяра. В юной компании из повести Гарина ничего подобного не наблюдается. Даже досуг гимназиста Врубеля вдохновенно посвящен школьным наукам, в ущерб рисованию. Тогда — вроде бы и в ущерб…
Вообще трудно оторваться от письма, где дорога каждая мелочь, каждая деталь привычек, домашнего обихода. Например, как отмечался в семье отцовский день рождения. «Гостей не было никого. Утром Папаша, Лиля и я отправились в католическую церковь, отслушали мессу, затем пили кофе, обедали, а вечером отправились в Итальянскую оперу».
Михаил Врубель был крещен в православной вере, да и его отец, патриотичный русский офицер, полагал себя католиком скорее «по недоразумению», к тому же не слишком счастливому, тормозившему, осложнявшему армейскую карьеру. И тем не менее — это мы уже о Врубеле-сыне — мессы в костеле, семейные предания, известные колкости насчет всяких там «полячишек» (обиды, как всегда, с особой продуктивностью) питали индивидуальный вариант мифа о чисто польском героизме, чисто польской куртуазной утонченности и прочих никому другому на свете не доступных польских доблестях и добродетелях. Семья мечтала, что по окончании Военно-юридической академии Александру Михайловичу удастся получить назначение в Варшаву. Юному Михаилу Врубелю тоже грезилось гулянье в зелени варшавских Лазенковских садов. О, Варшава! Нечто вроде благородного Петербурга в ореоле почти парижского изящества.
Так он, Михаил Врубель, ощущал себя поляком? Непростой вопрос. В определенной мере — да, порой даже подчеркнуто во внешнем образе европейца, чуть отъединенного от титульной российской нации и с легкой романтичной тенью аристократа в изгнании. Однако романтика обличий сама по себе, а натура есть сумма вживе укорененных привязанностей и пристрастий. Кстати, изрядно поездив по Европе, в грезившуюся Варшаву, имея на то все возможности, Врубель почему-то не заглянул. Что-то у него с этим, как говорится, не заладилось.
Но русский-нерусский, по крови столько-то, по нраву так, по духу эдак — бесовская калькуляция. Всё решается внутренним отношением к России, и оно ясно выражено юным Врубелем опять-таки еще в гимназические годы. В другом его одесском письме, написанном чуть позже, под впечатлением случившейся на праздники поездки в Кишинев.
Зачин уже не зависть к столичной жизни, а искренняя радость за сестру. «Ты, милая Анюта, на отличном пути: ты учишься, живешь в русском, деятельном, свежем городе и сама, следовательно, ведешь жизнь деятельную». Кишиневское светское общество юношу ужаснуло — это «застой, болото с его скверными миазмами», где несть числа общественным порокам («самодурство, кокетство, фатовство, разврат, мошенничество и т. д.»). Ладно еще дремучесть засевших по хуторам степняков. Гнев обличителя обрушен на представителей бессарабского бомонда, которые, «воспитываясь в русских учебных заведениях, должны бы были, кажется, любить русских и отдавать справедливость их цивилизованности, но нет — они предпочитают основательному образованию, даваемому русскими учебными заведениями, те жалкие верхушки французской цивилизованности, которые они нахватали от гувернеров и гувернанток…».
У самого юного Врубеля, естественно, твердый ориентир на грандиозные высоты русской культуры, одну из которых он явит личным вариантом ее страстной исповедальности и личным подтверждением, прямо-таки манифестом ее «всемирной отзывчивости». Но раз уж с неизбежностью всплывает мотив инонациональных струй, имеет смысл уточнить, чьи культурные традиции сильнее всего отзывались в воспетой гимназистом российской цивилизованности.
Вполне отчетливо — германские. Манера непременно щебетать по-французски и одеваться по парижской моде не должна вводить в заблуждение. Немецкая историческая школа (а стало быть, оценка своего и общечеловеческого опыта), немецкий научный подход, немецкая музыка (где Бах, Моцарт, Бетховен), немецкая поэзия (где Шиллер и Гете), немецкая философия (имен не перечислить) — влились в основы российского бытия. И повседневный быт значительно переменился благодаря призванным из Германии булочникам, аптекарям, всякого рода высококлассным специалистам. А собственно, как могло сложиться иначе, если и пополнение царствующей династии постоянно призывалось из немецких княжеств.
Яркий пример наитеснейших связей — помянутое юным Врубелем «основательное образование». Созданный в 1861 году как форпост отечественной педагогической мысли журнал «Учитель», одним из двух главных соредакторов которого был Николай Вессель, в программной статье без обиняков декларировал: «Германия есть настоящая родина науки вообще и педагогики в особенности». Журнал рассказывал об опыте различных зарубежных школ, публиковал идеи Яна Коменского, Руссо и Песталоцци, однако не случайно вскоре появились обвинения редакции в германофильстве. Впрочем, позже содружество русских учителей признало объективную причину несколько чрезмерных увлечений немецкой образовательной системой: «Когда настала крайняя нужда в педагогических знаниях, а их не было, что же было делать русским педагогам?»
Германское — для русского сознания всегда с оттенком тяжеловатой сумрачности, а после XX века, после двух кошмарных мировых войн, стократ более угрюмое — для Врубеля, впитавшего через мачеху и всю ее петербургскую родню немецкий компонент российской столичной культуры, таковым отнюдь не являлось, и повторявшая прусскую методу гимназическая школа его, как выяснилось, нисколько не угнетала. Хандра могла накатить, например, из-за собственной летней каникулярной лени: «…собирался прочесть „L’histoire des girondins“ [„Историю жирондистов“] Ламартина… пройти 50 английских уроков из Оллендорфа, прочесть Фауста на немецком — и ничего из этого не сделал!»
Очень кстати в те дни уныния пришлось освежительное веяние еще одной влиятельной зарубежной культуры. Произошло знакомство с французскими актерами, труппа которых поселилась на даче по соседству.
Милейшие, вполне приличные и принятые в доме люди («пили у нас несколько раз чай») так живо, остроумно рассказывали о французской жизни, что совершенно пленили самокритично загрустившего юношу. Знакомство продолжилось, хотя родителям это сближение показалось не слишком уместным. Сын обиделся. Не то чтобы упрек, но подспудное недовольство, отголосок противостояния звенят в написанном им вскоре после Рождества письме, где об отце, бодро одолевающем заболевание глаз, — «в своем всегдашнем настроении: жажде деятельности и подвижности», а следом о себе самом, бедном затворнике, — «провожу нынешние праздники весело — сверх обыкновения, так как вот уже четыре года, как я провожу праздники никуда не выходя, кое-что почитывая и порисовывая». Уточняется, что исключительный случай веселости (по мнению отца — явно неумеренной в ответственный год окончания гимназии) именно от дружбы с французами. Поясняется: «Я с ними тем больше сошелся, что вижу в них отличных знатоков искусства», а потому «нахожу с ними нескончаемые темы для разговора». Приводится неоспоримый довод в пользу новых знакомых — им понравились его рисунки пером, наброски персонажей из оперетт, дававшихся французской труппой; и он услышал комплименты своим способностям.