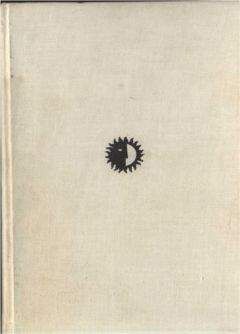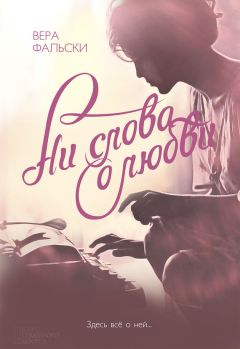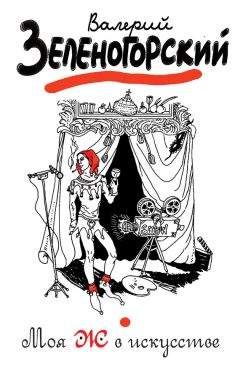Вера Домитеева - Врубель
Так рано и так широко для него развернулись просторы творческих миров, так ясно виделось их полное страстей и мыслей население, так глубоко переживались темы гениальных вымыслов, что этот мощный космос перевешивал в сознании мелкость будничной суеты, не часто радующей даровитостью сюжетов. Стихия музыки или котурны сцены отвечали уровню смелых и оригинальных литературных откровений, а мера окружающей житейской правды — нет, не отвечала. Откуда же возьмется интерес к предметам малоинтересным?
Что, в самом деле, скучное однообразие судебных дел одесского гарнизона, где трудится Александр Михайлович Врубель, в сравнении с тем, как сам верховный громовержец решает исход поединка героев-воинов, демонстрируя высшее олимпийское беспристрастие, но предварительно намекнув любимой дочери, что учтет ее нежное влечение к одному из бойцов и с божественной легкостью превзойдет земную человеческую справедливость.
Зевс распростер, промыслитель, весы золотые; на них он
Бросил два жребия Смерти, в сон погружающий долгий:
Жребий один Ахиллеса, другой — Приамова сына.
Взял посредине и поднял: поникнул Гектора жребий…
Что проза одесского порта, где брань биндюжников, вульгарный визг торговок, вечный гвалт покупщиков и перекупщиков, в сравнении с гаванью «морем объятой Итаки», откуда навстречу подвигам устремляются гребцы на чернобоком корабле под высокими белыми парусами:
Свежий повеял Зефир, ошумляющий темное море.
Бодрых гребцов возбуждая, велел Телемах им скорее
Снасти устроить; ему повинуясь, сосновую мачту
Подняли разом они и, глубоко в гнездо водрузивши,
В нем утвердили ее, а с боков натянули веревки;
Белый потом привязали ремнями плетеными парус;
Ветром наполнившись, он поднялся, и пурпурные волны
Звучно под килем потекшего в них корабля зашумели;
Он же бежал по волнам, разгребая себе в них дорогу
Томик Гомера с «Илиадой» и «Одиссеей» Врубель всегда возил с собой, его любимая книга известна.
Соученикам его в те годы полагалось любить другие сочинения. Они и любили, увлеченно штудировали Генри Бокля или Чарлза Дарвина, напрочь отвергая «все то, что понимается под словом „художественно“». Потому что, разъясняет юношам в повести Гарина вдумчивый и серьезный, чистейшей души студент университета, «в погоне за этой красотой гибнет знание». Человек же (имеется в виду поэт), вместо того чтобы осмысливать жизнь «в систематичном изложении постоянно накопляющегося, неотразимого вывода», занят невесть чем — «сидит болваном и ждет, пока его идиот Аполлон потащит в широкошумные дубравы… пакость! Уж если этакому болвану охота время свое тратить, так и пусть его, ну, а читать его ерунду прямо уж преступление…». Много смешного, но была здесь своя правда. Честного, прямого взгляда на мир в России вечно недоставало. Увлечение молодежи ясностью рациональных конструкций понятно.
Остается представить, как на фоне объединявшего развитых гимназистов страстного материализма и дружной ученической ненависти к латыни — шесть часов в неделю, четвертая часть времени пропадает! обидное унижение! шутовской предмет! — выглядела позиция стойкого классициста Врубеля, ублажавшего себя в свободное время чтением древних греков и латинян.
Был, однако, тогда среди современных писателей общий кумир, на котором сходились юные адепты Писарева, поклонник Гомера, их родители и вообще россияне обоего пола, всякого возраста и звания. Попробуйте угадать, кто это: Достоевский, Лев Толстой, Эмиль Золя?.. Угадать невозможно. Имя кумира — Шпильгаген. Ныне известный лишь историкам литературы, а когда-то обходивший по тиражам и библиотечной статистике всех авторов прошлого и настоящего немецкий писатель Фридрих Шпильгаген.
Сложно прочувствовать, чем так пленяли его толстенные романы, особенно тот, что назывался у него «В строю», а в русском переводе «Один в поле не воин». Сегодня дочитать этот томище, не утонув в безбрежных водах его риторики, непросто, а ведь читали, еще как! Упивались. Налицо, конечно, востребованная идейная насыщенность повествования, взгляды автора, разочарованного неудачей революции 1848 года, определенные параллели печального положения общества в полицейском режиме Пруссии и России, да и художественный принцип «натуральной, строгой объективности» добросовестно исполнял заявку времени. Без того вряд ли этот роман Шпильгагена кроме радикальной молодежи, вносившей его в свои «каталоги систематического чтения» наряду с «Историческими письмами» Петра Лаврова и статьями Николая Добролюбова, равно восхищал бы совсем юного тогда сладкоголосого лирика Семена Надсона и многоопытного, пронзительно зоркого Салтыкова-Щедрина, молодых Леонида Андреева и Василия Розанова. Роман с призывом к некоей свободе на базе высоконравственного гуманизма вполне годился также для уютных семейных чтений.
Как раз об этом в письме Михаила Врубеля: «Мы читаем сообща (Папаша, Мамаша и я) „Один в поле не воин“ Шпильгагена». И тут же предложение сестре: «Если ты его тоже читала, то я могу тебе прислать в следующем письме, если хочешь, портрет главного героя романа — Лео, так, как он мне представляется».
Каким ему представлялся Лео Гутман, эта личность великого ума, великой воли, этот прирожденный вождь, одинокий и трагически гибнущий герой? Разумеется, личным идеалом. Родители могли сколько угодно вторить справедливому выводу автора о пагубности эгоизма и невозможности переменить мир в одиночку. Их старшего сына — в этом-то, зная произведения Врубеля, можно быть уверенным — вдохновляло именно одиночество героя, смело и рискованно возвысившегося над затхлой средой.
Придется все-таки пунктирно пересказать фабулу, ибо при всей декларативности центрального образа (вернее, именно благодаря ей) здесь четко обрисован тот архетип титана-одиночки, который будет постоянно воодушевлять творчество Врубеля. Недаром еще не знавший термина «архетип» и предлагавший чрезвычайно перспективную гипотезу устойчивых литературных формул, Александр Николаевич Веселовский в своей университетской лекции 1870 года, не смущаясь сопоставлением Эсхила со Шпильгагеном, отмечал, что в образе Лео у современного автора угадывается античный Прометей.
Сюжет Шпильгагена: бедный воспитанник барона, угрюмый крестьянский сирота Лео презирает лицемерного благодетеля и всех его домочадцев, выделяя лишь еще одну баронскую воспитанницу — гордую Сильвию. Попытка смирить свой мятежный дух религией Лео не удается. Под влиянием местного идеалиста-демократа он примыкает к восстанию селян во время революции 1848 года. Бунт подавлен, и юный Лео бежит за границу. Затем он появляется взрослым, совсем другим: теперь это врач необыкновенного ума, блистательный оратор и неотразимый светский кавалер. Вновь встреча с Сильвией, страстный роман. Барон тем временем обуржуазился, застроил свое поместье фабриками, крестьяне превратились в угнетенный пролетариат, в массу, инертную без руководящей идеи великого человека, коим, естественно, выступает Лео. В борьбе за справедливость он становится политиком. Пытается убедить либеральную буржуазию опереться на рабочий класс, но безуспешно. Тогда ставка на короля, который может привлечь рабочих для противостояния буржуазным олигархам. Красота Сильвии позволяет Лео проникнуть в придворную среду, король им очарован, дает ему деньги выкупить баронские фабрики, дарит роскошную виллу, однако не решается назначить правительство реформаторов. Дабы усилить влияние на монарха, Лео готов, пожертвовав любовью, жениться на дочери важного генерала. Сильвия с горя бросается в воду, пролетарии не в силах конкурировать с капиталистом и поджигают ненавистную фабрику, король умирает, а Лео, погрузившись в мрачное отчаяние, гибнет на дуэли. Такой вот актуальный Прометей — мученик идеи, успевший бросить искру рабочего движения.
Шпильгаген в образе своего Лео активно использовал яркие черты личности Фердинанда Лассаля, что было хорошо известно, добавляло роману политической остроты и весьма способствовало его популярности. Возможно, Врубелю тоже был небезынтересен реальный прототип героя, возможно, в его рисунке даже отразилась на редкость эффектная внешность основателя немецкой социал-демократии. Только уж не демократия и пролетарские союзы вдохновляли юного художника, а в первую очередь линия бурной личной жизни благородного деспота Лассаля-Лео.
Рассказывая о многочисленных рисунках на литературные темы, об «элементах живописи, музыки и театра», ставших «с ранних лет жизненной стихией брата», Анна Врубель обошла молчанием элемент романтический. А в том, что этот элемент имел значительное место, сомневаться не приходится: всю жизнь друзья подтрунивали над Врубелем, практически не выходившим из состояния очередной безумной влюбленности. Неясно, отвечал ли он взаимностью на детское обожание Верочки Мордовцевой, но уже в гимназии, куда ученики поступали с десяти лет и к старшим классам обзаводились усиками, а кое-кто и бородкой, Врубель конечно же прошел весь путь сердечных горестей и радостей, которыми будоражили душу Артема Карташева гимназистка Манечка, деревенская Одарка, горничная Таня и т. д. Чувственный компонент, надо полагать, был не последним во врубелевских мечтах о студенческом будущем вдали от бдительных очей Александра Михайловича и Елизаветы Христиановны (в их среде, между прочим, даже слово «влюблен» считалось пошлостью).