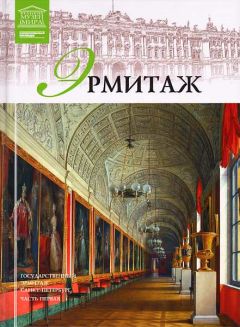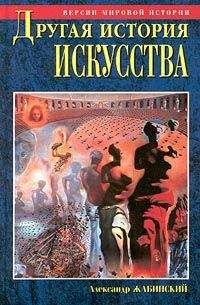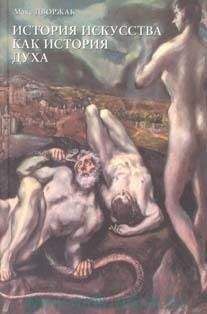Творение. История искусства с самого начала - Стонард Джон-Пол
Бернини желал, чтобы его скульптуры складывались в то, что он называл «un bel composto» («прекрасное целое») [394]. Его волновала не столько реалистичность деталей, сколько общий эффект: как скульптура «работает» в определенном месте, вкупе с архитектурой, живописью, цветом, светом и атмосферой. Пространства, в которых он творил, были грандиознейшими из всех доступных. Одна из его самых ранних больших работ была создана для недавно перестроенного собора Святого Петра в Риме: позолоченный балдахин из бронзы и мрамора — тридцатиметровый киворий на четырех витых колоннах: считалось, что их форма восходит к Храму Соломона, на богато украшенной крыше которого стоят четыре гигантских ангела. Он был возведен в средокрестии (пересечении главного нефа и трансепта), под новым куполом Микеланджело и прямо над могилой самого святого Петра. В итоге Бернини удалось создать выдающееся произведение, не уступавшее решениям Браманте, Микеланджело и других мастеров, участвовавших в строительстве грандиозного здания самой базилики. Его проект площади перед собором включает в себя две величественные колоннады, обнимающие дугами округлое пространство, словно две руки.
Скульптурные и архитектурные «спектакли» Бернини не сводились к зрелищам, а являлись выражением его глубокой внутренней религиозности [395]. Художник прекрасно знал автобиографическое произведение Терезы и множество других современных ему работ по теологии, в том числе и учение Игнатия Лойолы. Как заметил один из современников Бернини, в общении с ним требовалось отстаивать свою точку зрения, порой до легкого изнеможения. Как и в случае Микеланджело, Бернини не был ограничен одной лишь религиозной тематикой: оба художника славились своей кипучей энергией, без пауз переходя от проекта к проекту, придумывая всё более смелые решения, используя краски и мрамор, словно по божественному наитию. Но если Микеланджело сочинял прочувствованные сонеты о любви, Бернини предпочитал писать пьесы в духе комедии дель арте и ставить их у себя дома, задействовав в качестве актеров друзей и слуг. Он прославился и как сценограф, ставивший спектакли для папского двора, в том числе оперы, где использовалась хитроумная машинерия для создания сценических эффектов вроде потопа и пожара [396]. Гений Бернини был проникнут иронией, саморефлексией и юмором. Он понимал, что популярность не обязательно достигается отказом от глубины.
В Испании и Нидерландах в середине XVII века тон задавали наследники великой традиции Рубенса, Тициана и Караваджо. Их целью был великий стиль, а не техническая изобретательность, «сочное» письмо и гениальная передача различных текстур и света, так что творчество этих трех великих живописцев того времени стало метафорой самой жизни.
Диего Веласкес отличился, будучи еще совсем молодым, во время учебы в мастерской Франсиско Пачеко в Севилье. К двадцати годам он писал картины, свидетельствовавшие о его великолепном владении техникой живописи и композицией. Очень скоро его приметил один из величайших меценатов того времени, испанский король Филипп IV, и в 1623 году Веласкес приехал в Мадрид, чтобы работать при королевском дворе.
Уже в первом портрете Веласкес создал запоминающий образ короля для потомков: длинное, узкое лицо, расслабленная и интеллигентная манера держаться и пухлый габсбургский подбородок. Веласкес писал его в разных ипостасях: то безмятежно укрощающим вставшего на дыбы коня, то облаченным в нарочито скромный охотничий наряд, то одетым в изысканный черный шелк (модное наследие бургундского двора), держащим в руке сложенную бумагу внушительного вида, что создает впечатление, будто время от времени Филипп действительно занят какой-то работой.
Филипп действительно подходил к работе очень серьезно: однако не к той, что упрочивала бы финансы королевства или концентрировала бы власть в руках Габсбургов, а к работе по расширению и украшению королевских дворцов, для которых он заказывал картины у величайших художников своего времени. Его прадеда, Карла V, Тициан изобразил великим воином и императором Священной Римской империи, всемирным монархом, который боролся за свою обширную империю против лютеран, турок и французов. Дед Филиппа тоже был изображен Тицианом в воинственном облачении, а итальянский скульптор Леоне Леони и его сын Помпео отливали образ короля в массивной и основательной бронзе.
Филипп, в отличие от предков, был эстетом. Он отправил Веласкеса в Италию, чтобы скупать картины и скульптуры, а также собирать слепки с античных статуй и наполнять этими прекрасными изображениями и предметами свои дворцы. В одном из этих дворцов, мадридском Алькасаре, есть комната, послужившая декорацией для одного из самых поразительных портретов Филиппа кисти Веласкеса. Король, как это ни парадоксально, изображен всего лишь в виде расплывчатого пятна света на заднем плане рядом с таким же расплывчатым изображением его второй жены, Марианны Австрийской, на которой он женился в 1649 году после смерти его первой жены, королевы Елизаветы Французской. Марианна должна была выйти замуж за сына и наследника Филиппа, Бальтазара Карлоса, которого Веласкес изобразил на очаровательно полнобоком вздыбленном коне размером с осла, чтобы всадник казался выше, однако мальчик умер в юном возрасте, разбив отцовское сердце. Марианне, из династических соображений, пришлось принять предложение безутешного Филиппа и провести первые годы своего замужества в основном одеваясь в замысловатые придворные наряды, если судить по портретам Веласкеса, которому она позировала в перевитых лентами пышных прическах и по-детски презрительно надув губки. Тень этих надутых губок присутствует и в зеркале на великой картине Веласкеса, несмотря на то что Марианна изображена лишь расплывчатым пятном. Картина является скорее портретом их дочери, инфанты Маргариты, и двух королевских фрейлин: она так и называется «Менины» (свита при особе наследника или наследницы престола).
В центре композиции в белом шелковом платье стоит Маргарита: ее волосы свисают нежными прядками, а в открытом, детском взгляде видна и девичья невинность, и сознание собственных достоинств — пробуждающиеся признаки властного тщеславия. Ее изящная манера держать себя контрастирует с грубовато-непосредственными взглядами двух придворных карликов, Мари Барболы и Николасито Пертусато: последний осторожно поставил ногу на мастифа, который терпеливо прикрыл глаза.

Диего Веласкес. Менины. 1656. Масло, холст. 316 × 276 см
Одна из фрейлин, Мария Аугустина Сармиенто, подает Маргарите небольшой красный кувшин с питьевой водой, а другая, Исабель де Веласко, заметно более высокая, с почтением и любопытством наклонилась вперед. Значимости ее вопросительному взгляду придает композиционное совмещение ее головы с фигурой человека, стоящего в проеме двери в дальнем конце комнаты (это камергер Хосе Нието): он оглянулся, перед тем как подняться вверх по ступеням. Исабель смотрит на нас так, словно знает о нас, но без малейшей тени суждения. Как и все персонажи картины, она приветствует нас с теплотой и заинтересованностью, что говорит о куртуазных манерах королевских особ и их придворных. Однако есть одно исключение — сам Веласкес: он стоит перед холстом, над которым работает, мы же видим лишь оборотную сторону, которая занимает весь левый край картины. Чуть склонив голову и держа кисть у груди, он размышляет. Как создать образ власти, который в то же время был бы привлекательным и приковывающим внимание, который бы обращался к душе, а не просто требовал почтения, демонстрируя высокое положение? Как с помощью чарующей масляной живописи показать этих грозных людей, чье существование так тесно связано с судьбами государств и империй? Как создать картину, которая бы отражала этих могущественных властителей, их повседневную жизнь и в то же время говорила бы о чем-то большем, о взгляде на самое себя, о восхитительной природе самого взгляда и о самом невероятном, что есть в мироздании, о человеческом глазе? Как, одним словом, создать нечто интересное, оставаясь придворным художником?