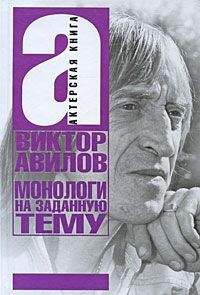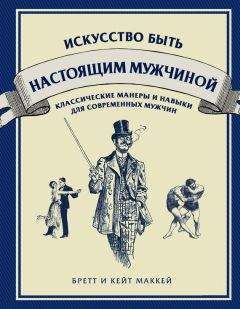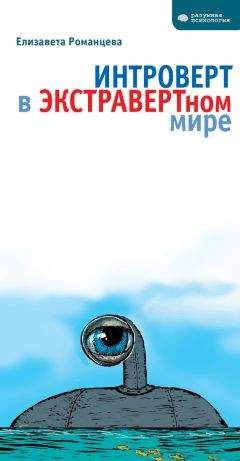Вениамин Фильштинский - Открытая педагогика
Теперь о втором виде этюдов. Это были, как я уже говорил, сцепки про животных, где своеобразно и смело А.И. соединял раз-пых животных: кота с собаками, коров с кабанами, пантеру с леопардом и т. и… Дух захватывало от «обезьяньих» мизансцен на потолке (у нас такая аудитория, что под потолком есть железные швеллеры, на которых можно висеть и за которые можно зацепиться). Дух захватывало от смелости, с которой это делалось, причем студентов на эту смелость провоцировал именно А.И. В этих этюдах была и отвага, и эксцентрика, и юмор, в общем, — завидная творческая «аппетитность»… Однако и тут тоже, мне кажется, есть творческие проблемы. С одной стороны, в этих ярких этюдах — раскрепощение тела, телесная смелость, гибкость. С другой стороны, как мне тогда казалось, тут была преждевременная циркизация, было отсутствие процесса у этих животных, потеря, собственно говоря, главной цели обучения, цели создания того сценического самочувствия, которое Станиславский называл «Я есмь»…
Последний первокурсный, первого семестра, зачет А. И. Кацмана запомнился мне как яркий, талантливый и в то же время зачет не без педагогической спорности.
Повторяю, это все субъективно. Может быть, я и не прав. Возможно, там, где я видел нелогичность и противоречие, на самом деле был своего рода замысел или своего рода последовательность. С А.И. мы, как правило, не говорили вне урока. Если б говорили, может быть, он и дал бы какие-либо разъяснения.
Второй курс. Начиная со второго семестра первого курса и практически весь второй курс, в программе обучения были отрывки, позволившие А.И. проявить замечательные свойства своего режиссерско-педагогического дарования. Прежде всего — это его удивительное мастерство в создании планировок, в разработке сценического пространства. Но, конечно, тут было и мастерство вскрытия, разбора материала. Прежде всего, видимо, и следует сказать об этом. Он разбирал пьесы замечательно, со вкусом, с вдохновением. Как это происходило? А.И. почти всегда останавливал показываемый отрывок. Останавливал по-всякому: останавливал его в середине, останавливал его во время кульминации, порой останавливал вообще через пять секунд после начала, что, казалось бы, не всегда было педагогически целесообразно, потому что в отрывке, плохо начатом, могли быть какие-то хорошие вещи в середине или пусть даже в конце… Студенты немного обижались. Мол, мы все-таки работали… Но у А.И. на это был свой резон. «Если первые ноты фальшивые, — говорил он, — зачем слушать музыку дальше — дальше уже хорошей музыки не жди». Остановив отрывок, он обычно просил: «Дайте мне книгу». Брал книгу, раскрывал, просил — «Дайте свет». Студенты вскакивали с места, театральный прожектор, до этого направленный на сцену, направляли на стол Мастера, где лежала книга, и он начинал читать отрывок и разбирать его. Разбирал обычно очень хорошо, упорно выискивал событийную основу, точно находил границы между событиями. Делал все это подробно, придирчиво, скрупулезно. Делал эти разборы он так, что студенты, что называется, заслушивались. Они слушали порой его анализ, как сказку… Менее наглядно его умение вскрывать материал проявлялось, естественно, в первом семестре, когда мы занимались отрывками из советской прозы (порой в этих отрывках и вскрывать-то было нечего). И очень эффектно во втором семестре, когда мы переходили к классике. Тут он блистал. Чего стоил прекрасный его разбор отрывка из тургеневского «Дыма»!.. Или точный анализ неоконченного пушкинского наброска «На углу маленькой площади»…
Порою А.И. просто удивлял своей интуицией. Иногда видно было, что он раньше вообще не читал данного отрывка, но на ходу угадывал суть, схватывал общий смысл, догадывался, и тут же с блеском разворачивал свою версию того, что происходит. Это, кстати, было любимое его слово: «версия». Помнится так же, как хорошо разобрал он отрывок из «Подростка» Достоевского, как интересно разобрался в «Нравах Растеряевой улицы» Глеба Успенского, быстро уловив очерковую природу этого произведения. Вообще он быстро схватывал и событийность, и стиль… Или, к примеру, известный чеховский рассказ «Длинный язык». Он сразу отметил важность факта еды в данном рассказе. Правда, сначала он сказал, что еда — самое главное, а потом уточнил, что еще главнее — праздник встречи мужа и жены. Но на втором месте — еда: «Мы же видим еду». Вообще это вот соображение, что событие — это то, что мы видим, очень часто подтверждается практикой его разборов. Хорошо помню эффектный разбор отрывка из «Села Степанчикова» Достоевского. Я как второй педагог до этого работал со студентами без А.И., и вроде бы у нас неплохо получалось, но там, где мы увидели пять событий, он, прочитав отрывок и вскрыв его, нашел девять. Причем, меня особенно поразило, что йотом, повторно смотря отрывок, он очень хорошо помнил все девять событий, держал их в голове «сквозь текст». Это впечатляло.
Хочется отметить, как лихо А.И. компоновал драматургию отрывков. Особенно в первом семестре второго курса, когда шли по программе отрывки из советской литературы. Он смело, без излишнего академизма соединил один кусочек текста с другим, и часто это было очень удачно. Помню, как в «Детях Арбата» Рыбакова он с помощью черной завесы смело создал два места действия, как он ввел в «Завтра была война» Васильева стихи Есенина. Впрочем, уже и в этих этюдах первого курса он смело сочинял оригинальные финалы. Для этюда «Дембельский суп» сочинил «афганский финал». К мирному этюду про полевую кухню, в котором всего лишь варили суп, он прибавил налет душманов, обстрел и т. д.
И, наконец, особо хочется сказать о планировках. Тут Мастер просто парил, вдохновлялся и с огромным аппетитом и фантазией этим занимался. К примеру, отрывок из «Обмена» Ю. Трифонова: там действие происходит в комнате молодоженов. И вот А.И. специально создал скученную среду — со столом, со шкафом, с книжной полкой, с веревкой, на которой висели пеленки… Правда, добившись скученности, он потом, как это часто бывало, от многих деталей отказался, стремясь прийти к лаконизму: стол выбросил, шкаф выбросил, оставил только тахту и пеленки…
Или, скажем, прекрасное пластическое решение тургеневского «Свидания». Он сделал очень просто: под наш учебный ковер подставил ящик и, благодаря пластичности ковра, возник пологий холмик; на пего бросили несколько листьев, и вот уже перед нами — пологий холмик в рощице.
В «Подростке» Достоевского тоже очень хорошим было пространство: один шкаф и один стул. И этого оказалось достаточно.
Или возьмем «Чевенгур» А. Платонова. Здесь он создавал планировку подробную, разветвленную. Где-то сзади нашел место для хозяйки, которая у Платонова подразумевается, по не появляется. Но А.И. считал, что хозяйка должна быть поблизости, и нашел для нее место.
Очень упорно работал он над планировкой «Романа о девочках» Высоцкого. Получилось выразительно… В «Детях Арбата» решил сделать встречу героев около свалки… Качели — в «Завтра была война»… Или, скажем, — «Доктор Живаго» Пастернака. Замечательная планировка: была открыта обычно завешенная у нас задняя стена аудитории; окно было распахнуто, и оттуда лился солнечный свет; прожекторы в этом отрывке не зажигались; бил дневной «контровой» свет. Экзамен был летом, в окно буквально лезли зеленые ветки деревьев, и какая-то особая чистота в этом была. А ведь чистота в «Живаго» очень важна. Чистота физическая и чистота нравственная. И это было очень сильно выражено пространством… Там, в «Живаго», еще одна интересная вещь была… Весь отрывок строился на том, что героиня гладила. И, по настоянию А.И., студенты целое исследование провели: какие раньше были утюги, как они разжигались. Нашли в описаниях, что был особый вытяжной шкаф для утюгов, и построили такой шкаф…
Или, скажем, отрывок «В огне брода нет» по киносценарию Глеба Панфилова. А.И. захотел, чтобы действие шло на натуральном песке (дело происходит на берегу реки). Горы песка натащили студенты! Вообще, они с энтузиазмом подхватывали все предложения Мастера, потому что так было внушено: планировка, деталь, обстановка, среда — все это очень важно. И в этих случаях студенты проявляли чудеса «добычливости»…
Иногда доходило до курьезов. Помню отрывок «Не стреляйте в белых лебедей». А.И. сказал: «Нужна лодка». Достали лодку, вернее, нос огромной натуральной лодки. Втащили в аудиторию. И вдруг: «Это глупость, нужна совсем другая лодка». А они-то, бедные, тащили ее откуда-то с Петровской набережной, договаривались с какими-то сторожами, лодочниками… Через пять минут лодка была вынесена. Что же вы думаете — через день достали новую лодку!.. Понравилась… (Тут Аркадий Иосифович стал искать ее ракурс, долго возился… И нашел-таки очень хороший ракурс.)
Интересно он разрабатывал пластическую партитуру чеховской «Ведьмы». Планировка была удачная — печь посередине, справа спал дьячок, слева был вход… Но дело не только в планировке, упорно шел поиск и через актеров пластического выражения того, что происходит на сцене. Мы репетировали «Ведьму» вместе, и вот захотелось сделать, чтобы почтальон не спал, а все слышал, чувствовал и чутко улавливал, что происходит между ведьмой и дьячком. «Хорошо бы, — говорю я, — чтобы было видно лицо почтальона, хотя для дьячка и для ведьмы он как бы спит». В одну минуту Аркадий Иосифович поставил на ребро мешок и так удачно подставил его под голову почтальону, что все стало понятно без слов.