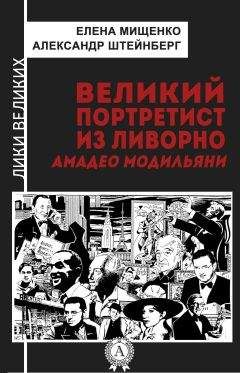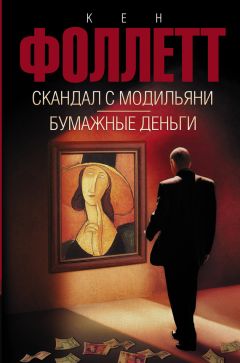Кристиан Паризо - Модильяни
Расскажи и ты, как живешь. Ведь в подобной откровенности — цель дружбы. Нужно строить из первоэлементов волю, раздувать ее пламя, следуя своим наклонностям, и открывать себя другому, а значит, и самому себе, ведь так? Чао.
Твой Дэдо».
Все самое интересное и проникновенное, что может быть написано о Модильяни, о выработке его художественного кредо, о становлении его манеры, высказал он сам. Переписка с Оскаром Гилья выдает его властное стремление явить миру неповторимость собственной личности, жаждущей новизны в искусстве.
Из Рима он привезет несколько этюдов античных голов, тарелку из обожженной глины с масляной росписью, изображающей голову Медузы, и набросок картины «II Canto del cigno» («Лебединая песнь»), а также вид осеннего леса у виллы Боргезе, начатый в ателье римского художника Нино Косты; как вспоминает Луэлин Ллойд, для этой картины Модильяни сделал много набросков в технике процарапывания и проскребания шпателем рисунка по таинственно золотистому фону, составленному из похожих по фактуре на сиену зеленоватых и красноватых слоев краски. Джованни Коста, римский художник, взявший себе имя Нино, — один из первых, кто стал выходить из мастерской, чтобы писать на натуре; добрый десяток лет он работал во Флоренции с маккьяйоли, привнеся в их среду влияние прерафаэлитов, с которыми был знаком в Лондоне, и творческие принципы Коро. С последним он близко сошелся в Париже, затем с ним же писал пейзажи в окрестностях Рима. Именно он внушил Джованни Фаттори идею следования реальным, «природным» законам изображения. Когда Амедео встретился с ним в Риме, тот как раз основал сообщество художников, назвав его «Свобода — в искусстве» («In Arte Libertas»), и с немалым красноречием излагал перед его членами свои эстетические концепции.
Возможно, что именно под влиянием Нино Косты или же руководствуясь спонтанным порывом бежать от повседневного убожества ливорнской действительности, хотя, быть может, и по наущению самого Гульельмо Микели, который с благородным бескорыстием советовал своим лучшим ученикам уезжать из Ливорно во Флоренцию и поучиться у Фаттори, — так или иначе, но Модильяни решается: в мае 1902 года он записывается в Свободную школу рисования с обнаженной натуры при Флорентийской академии изящных искусств, где живопись преподавал Джованни Фаттори.
ФЛОРЕНЦИЯ
Мастерская Джованни Фаттори во Флоренции, большая, довольно захламленная и плохо отапливаемая, с низким, затянутым паутиной потолком и обшарпанными, заляпанными краской стенами, находится в одной из пристроек здания Академии изящных искусств. Там всегда царит невообразимый беспорядок. Картины, кисти и щетки всех сортов и размеров, высохшие палитры и тряпки, полные горшки с кислотой и горшки, уже опустошенные, бидоны с маслом и скипидаром, куски картона для рисования, вкривь и вкось исчерканные набросками, гипсовые бюсты и слепки, более или менее целые или поломанные, протертые от пыли или черные от грязи, куски ткани всех цветов: муслина, бархата, шелка, тафты, атласа, — а еще этажерки, заставленные множеством книг и самых неожиданных предметов, холсты, над которыми ведется работа, царственно водруженные на мольберты… Старый мэтр из когорты маккьяйоли и сам писал здесь на виду у питомцев, поглядывая в блокнот с зарисовками, с коим не расставался никогда; там у мастера копились наброски особо тронувших его сценок, жестов, абрисов и сочетаний цветов, подмеченных, как он говорил, «в великой книге природы».
— Делайте то, что подсказывает вам чувство, а не заглядывайтесь на то, что делают другие, — любил он повторять.
По вечерам Амедео, Луэлин Ллойд и Оскар Гилья, тоже перешедшие к Фаттори, собирались в компании других его учеников в траттории Ченчо Мареммано, что в квартале Пинти, или в концертном зале брассерии «Гамбринус» на площади Витторио Эмануэле. Они встречались там с молодыми интеллектуалами, такими, как Джованни Папини, который позднее сделается асом журнальной полемики, поэтом, романистом и критиком, как художники Адольфо Де Каролис и Джованни Костетти (последний к тому времени — признанный портретист, вещающий им о выразительных потенциях цвета у Сезанна, способных передать внутреннюю сущность объекта), как скульптор Джеминьяни, поэт Луиджи Морчелли и другие.
Амедео уже исполнилось восемнадцать, он очень недурен собою. Не слишком высокий, но грациозный в движениях, он вдобавок элегантен от природы, высоколоб, с густой гривой черных блестящих волос, слева разделенных пробором, его лицо украшают орлиный нос, пара огненных глаз под волевыми надбровными дугами, затененными густыми черными бровями, и красиво очерченный, всегда слегка улыбающийся рот. Со времен детства у него сохранились нежные черты лица, бледность, тонкая гладкая кожа, еще не тронутая бородой, и подростковая застенчивость. Выглядит он всегда безукоризненно в темном бархатном костюме и белой рубашке с галстуком, завязанным пышным бантом. Он пользуется большим успехом у девушек из своего окружения. Но хотя любит нравиться и слегка играет этим, с той стороны не предвидится ничего серьезного, пока он не исчерпал первого порыва творческой энергии. Как и объявлял в своих письмах Оскару Гилья, он весь, душой и телом, ушел в работу. «Куколка», как писала его мать, прорвала свой кокон. Почти все время молодой художник проводит в мастерской, а когда не работает, посещает музеи, причем систематически и усердно. Галерея Академии, палаццо Веккио, галерея Уффици, палаццо Питти, где он восхищается произведениями флорентийских мастеров эпохи Возрождения, особенно Учелло, Мазаччо, Верроккьо, Боттичелли, Гирландайо, не говоря уже о знаменитой троице гениев: Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэле, но при этом он уделяет внимание и другим художественным школам: фламандской, венецианской, испанской и французской.
Луэлин Ллойд часто навещал друга, заходя в его крошечную комнатушку, снимаемую в доме на улице Боккаччо. Однажды утром в начале 1903 года пришедшие с Апеннин тучи забрались так далеко, что посыпали снежком берега Арно. Луэлин пришел в восемь часов, закутанный в теплый плащ, в надвинутом на самые глаза шерстяном берете и толстенных варежках. Запыхавшись, он плюхнулся на табурет так, что носки ботинок оказались прижатыми к передним ножкам, а пятки висели в воздухе. Он любил сидеть именно в этой позе. Несколько мгновений Амедео пристально разглядывал приятеля, потом вдруг спросил:
— Ты сможешь так просидеть до вечера?
— Валяй. Бери палитру, кисти и начинай. Будь покоен: я не сдвинусь с места.
Он и впрямь не сдвинулся ни на миллиметр, так и сидел, пока не стало смеркаться. То есть до четырех часов дня. Они не сделали перерыва даже для полуденного перекуса, не выпили ни капли, но портрет был закончен. На зеленоватом фоне. Истинный шедевр в своем роде.
В тот же период Амедео написал еще небольшой портрет невесты своего дядюшки Амедея Гарсена, вещь чистейшей импрессионистской выделки в полном согласии с тем, чему обучал Фаттори. Мудрое, исполненное нежности произведение, в некотором смысле свидетельство благодарности дяде, как всегда, щедрому — это его деньги частично покрывали стоимость обучения племянника живописи. И конечно, молодой человек хотел показать близким, на что он теперь способен.
В музее Барджелло Амедео испытал еще один сильнейший шок, на этот раз от знакомства с ренессансной скульптурой. Донателло, Микеланджело, Бенвенуто Челлини и Джамболонья буквально вскружили ему голову. И не в одном только музее, но и повсюду в городе. Сады, площади, фонтаны изобилуют мраморными и бронзовыми изваяниями, одно другого прекраснее. Амедео по многу раз ходит на все это поглядеть, размышляет, созерцает, делает наброски… Скульптура рождает в его душе более сильные и властные переживания, чем даже живопись. Он уже не может ни на минуту выбросить ее из головы. Новая греза обретает очертания. Принять вызов глыбы мрамора, высекать из камня, резать его, полировать, извлекать из него человеческое лицо, давать всему этому жизнь. Возвратившись в Ливорно, он тотчас устремляется в Пьетрасанту, художественный центр по обработке мрамора, что близ Каррары. Там в ослепительно белых карьерах его призвание подвергается искушению, перед которым невозможно устоять. Теперь он хочет быть скульптором, прежде всего скульптором. Но впрочем, не собирается вовсе покинуть живопись: он чувствует, что его счеты с ней еще не сведены, хотя и подозревает, что художественные круги Тосканы не способны помочь ему в поисках собственного уникального предназначения.
Внезапно он решает покинуть Флоренцию и провести некоторое время в Венеции.
ВЕНЕЦИЯ
Экспресс за двадцать минут проглотил девятнадцать километров до Пизы, затем оставил слева Пизанские горы, а справа маленький красивый холм Сан-Миниато с изящным собором. Опять слева, у Монтелупо, где поезд пересек Арно, пронеслась исполненная архитектурного изящества вилла Медичи. По узкому ущелью Гонфолина, змеящемуся меж Альбанских гор, поезд проследовал вдоль реки. Промелькнул Эмполи, за ним укрепленный городок Синья. После Сан-Доннино мимо окон понеслись бесчисленные виллы, предвещая скорое прибытие во Флоренцию. Итого: часа сорока пяти хватило, чтобы через холмы и долы, пейзажи, не претерпевшие перемен со времен Средневековья, поезд преодолел семьдесят восемь километров, отделяющих Флоренцию от Пизы. На центральном вокзале Флоренции Санта Мария Новелла пришлось пересесть в скорый, идущий в Болонью. Опять замелькали виноградники, оливковые плантации, усеянные цветами насыпи; напористое урчание паровоза, резкие свистки при приближении к вокзалам, мимо которых поезд следовал без остановки… Великолепные земли цвета красной и желтой охры с торчащими то тут, то там башенками и зубчатыми стенами замков, неясно видимыми сквозь туманную дымку, напоминали ему Джотто и Мазаччо, обширные цветущие сады — Филиппо Липпи и Боттичелли. Затем между туннелями и виадуками перед глазами путешественников поплыли величественные виды равнин и предгорий Апеннин, монастыри, деревни, берега реки Рено и плодородная равнина до самой Болоньи. После Болоньи нетерпение юного путешественника стало расти. Каналы, речки, болотистая ровная местность, Феррара, Ровиго, мост через Адидже, развалины замка, Монселиче, Батталья, холмы Колли Эуганеи с их термальными источниками и деревня, где родился Тит Ливий; на одном из всхолмлений — Падуя. Железнодорожное полотно пересекает последние тридцать километров, отделяющие Падую от Венеции, тянется вдоль канала, ведущего к Батталье. Нетерпение беспокойного юноши уже перерастало в нервное возбуждение. Наконец Местре, последнее поселение на твердой земле, за ним — мост через лагуну, а через несколько минут вокзал Санта Лючия, раскинувшийся над водной гладью.