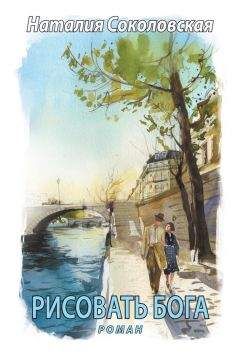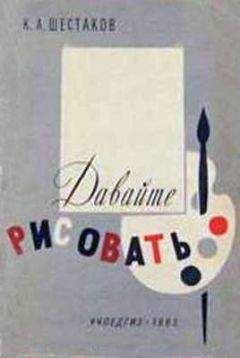Михаил Ромм - О себе, о людях, о фильмах
— Какое счастье, что я не сижу рядом с ней.
И, сказав эту фразу, она застывает в презрительном спокойствии. Муж, вытащивший из кармана колоду засаленных карт, очевидно, украденных в гостинице, взглядывает в угол и кивает головой. Вновь поплыли лица. Граф, поглядывая в угол, сообщил что-то Каррэ-Ламадону. Каррэ-Ламадон взглянул туда же.
Важно дремлет Корнюдэ. Сидит, опустив голову, Пышка. Сидит немецкий солдат. Он поглядывает то на Пышку, то на остальных пассажиров. Он зажал в коленях тяжелое ружье. Он взглянул еще раз.
Дремлет Корнюдэ. Тихо беседует граф с Каррэ-Ламадоном. Они не смотрят на Пышку. Она не существует для них.
Супруги Луазо дуются в карты, подозрительно поглядывая друг на друга, ибо знают свои способности к плутовству.
Оживленно беседуют дамы.
Молятся монахини.
Кончив обзор, конвоир взглянул на Пышку, хотел было сказать что-то, но сдержался. Сидит молча, отвернувшись.
Пышка, опустив голову, уставилась в покрытый соломой пол.
Она мрачно размышляет, она взглядывает исподлобья на патриотов.
Г-жа Луазо отрывается от карт, чтобы кинуть взгляд на Пышку. Она сообщает мужу:
— Она так увлеклась, что не ужинала и не завтракала.
Луазо складывает карты. Он взглядывает на Пышку, зевает, потом, вздохнув, говорит жене:
— Кстати, хочется есть.
Г-жа Луазо вынимает из-под сидения сверток. Начинает разворачивать.
Г-жа Каррэ-Ламадон и графиня, прервав разговор, обернулись и одновременно, как по команде, вынули из-под сидения по корзиночке.
Граф и Каррэ-Ламадон, прервав разговор, с приятностью улыбнулись, протянули руки, получили по блюду. Граф с паштетом, Каррэ-Ламадон с заливными цыплятами, точно такими же, какие были съедены во 2-й части у Пышки.
Корнюдэ, сидящий рядом с Пышкой, запустил руку в карман, вытащил пару крутых яиц, разбил яйцо, облупил и бросил скорлупу на пол. Пышка заволновалась, отвернулась, не в силах глядеть на жующего человека. Она явно голодна. (На переднем плане немецкий солдат, поглядывающий на всю эту сцену.)
Монахини уже распаковались. Старшая перекрестилась, передает младшей булочку и кусок колбасы. Младшая, перекрестясь, принимает.
Корнюдэ очищает второе яйцо. Ест, обсыпая крошками желтка свою густую и противную бороду. Пышка с яростным негодованием оглядывается и отворачивается.
Корнюдэ вынимает еще пару яиц. Пышка проглатывает слюну.
Едят граф и Каррэ-Ламадон.
Едят телятину супруги Луазо, целиком погрузившись в это занятие.
Деликатно кушают дамы. Графиня — паштет, г-жа Каррэ-Ламадон — заливного цыпленка.
Едят колбасу монахини, едят, покорно вздыхая, скромно потупив глаза.
Корнюдэ разбивает яйцо. Очищает. Ест. Запускает руку в карман и вынимает еще пару. Пышка сидит между ним и немецким солдатом. Она беспокойно оглядывается. Ей мучительно хочется есть. Комок подкатывает к ее горлу.
Она с понимающим голодным раздражением оглядывается по сторонам. Она негодует. Она явно готова разразиться яростной бранью. Но она сдерживается. Она вдруг нагибается. Шарит рукой под сиденьем.
Пустая корзина — та самая корзина, в которой лежала некогда ее провизия, съеденная в свое время патриотами. Теперь в ней валяются скомканная салфетка, перевернутые пустые бутылки, кости.
Пышка выпрямляется. Обида, негодование, гнев написаны на ее лице. Вот-вот она закричит. И вдруг она сникает. Губы ее вздрагивают, слезы показываются на глазах. Она сдерживает их. Она, как ребенок, старается не плакать, не показывать вида.
Равнодушно и жадно едят супруги Луазо.
Равнодушно и деликатно кушают дамы.
Едят мужчины с Корнюдэ на переднем плане. Он разбивает еще одно яйцо, запивая в то же время предыдущее вином из фляжки.
Потупившись, уплетают колбасу монахини.
Плачет Пышка. Плачет от обиды и голода, как ребенок. Она сидит выпрямившись, суровая и бледная, она неподвижно смотрит куда-то в пространство. Она старается не шевелиться, не всхлипывать, чтобы никто не заметил ее слез.
Но графиня замечает. Она легким кивком головы показывает на Пышку г-же Каррэ-Ламадон. Та пожимает плечиками: «Что ж, мол, делать, я здесь ни при чем».
Заметил Каррэ-Ламадон. Он тихонько указал графу на Пышку. Граф пожал плечами: «Что ж, мол, делать. Я здесь ни при чем».
Заметила г-жа Луазо. Она опустила руку с куском телятины, толкнула мужа локтем и засмеялась тихим, торжествующим смехом, говоря:
— Она плачет от стыда.
Луазо, прожевывая телятину, поднял глаза и пожал плечами: «А я-то тут при чем?».
А Пышка, сидящая между Корнюдэ и конвоиром, продолжает плакать. Слезы текут по ее щекам, слезы капают на высокую грудь. Корнюдэ стряхивает скорлупу с колен. Обтирает бороду. Откидывается к спинке, икает. Неподвижно сидит конвоир, глядя куда-то под ноги, зажимая в коленях тяжелое ружье.
Плачет Пышка, кусая губы, стараясь сдержать слезы, неподвижно уставившись в пространство.
Корнюдэ удовлетворенно икает. (Крутые яйца.) Довольство разливается по его лицу. Он важно произносит:
— Отлично…
Он искоса взглядывает на Пышку и, сытый, ублаготворенный, совершенно забыв о том, что Пышка голодна, что она отвержена, заклеймена позором, запускает руку назад и аппетитно щиплет куда полагается. Пышка сразу, точно от электрического разряда, выпрямляется. Секунду она, задыхаясь, с бешенством, еще заплаканная, но уже с совершенно новым лицом смотрит на Корнюдэ в упор и вслед за тем со всего размаха ударяет его по щеке.
Вздрагивают и застывают дамы.
Вздрагивают и застывают граф и Каррэ-Ламадон.
Пышка, яростно пригнувшись к остолбеневшему Корнюдэ, второй раз, с еще большим бешенством, ударяет его и, вдруг подавшись вперед, разражается залпом отчаянной ругани, на этот раз явно адресованной ко всем сидящим в дилижансе.
Застыли испуганно супруги Луазо. Луазо подносит руку к щеке, как будто это его, а не Корнюдэ ударила Пышка.
Застыли испуганно монахини. Старшая поднимает руку, чтобы перекреститься, но крестное знамение замирает на полдороге.
И так же внезапно, как она пришла в ярость, Пышка вдруг оседает. Она сникает, дрожа от волнения. Корнюдэ, не знающий, как ему реагировать на происшедшее, уже зашевелился. Он принимает на всякий случай монументально обиженную позу.
Переводя дух, разом, начинают креститься монахини.
Зашевелились супруги Луазо. Луазо проглатывает оставшийся во рту остаток телятины.
Повертев головой, как бы проверяя, на месте ли она, Каррэ-Ламадон укоризненно замечает прямому, как статуя, и несправедливо обиженному Корнюдэ:
— Вот она, ваша республика.
Корнюдэ не шевелится. Он сидит в позе обиженного монумента.
Дамы поспешно и испуганно упаковывают провизию, как будто им предстоит немедленно вылезать.
А Пышка сидит рядом с конвоиром, и слезы вновь навертываются на глаза. Конвоир держит в руках кусок хлеба, он взглядывает на Пышку и отворачивается.
Глядит прямо перед собой Пышка. Она кусает губы, она вздрагивает. Но она не плачет. На этот раз она не плачет.
Конвоир разламывает хлеб пополам и, не глядя на Пышку, с суровой деликатностью простолюдина, кладет ей на колени. Кладет незаметно, спокойно. Пышка быстро взглядывает на хлеб, на немца, уже начавшего жевать свою долю, опять на хлеб. Губы ее начинают дрожать сильнее. Она берет хлеб в руку, только берет, не начинает есть, а слезы уже вновь показываются у нее на глазах, слезы ползут по щекам, капают на высокую грудь.
А пассажиры уже успокоились. Дамы, уложив провизию, мирно беседуют, искоса поглядывая на Пышку.
Луазо уже вытащил колоду и тасует. Граф тихо говорит с Каррэ-Ламадоном.
А Пышка — бледная, суровая — сидит между обиженным Корнюдэ и спокойно жующим конвоиром, и слезы катятся по ее щекам.
Она откусывает кусок хлеба, и рот ее не знает, что делать с этим куском. Она медленно жует кусок и плачет, глядя невидящими глазами в пространство.
Граф оторвался от беседы с Каррэ-Ламадоном, взглянул искоса на Пышку и нагнулся вперед. Кивая головой в сторону Пышки, он спрашивает:
— Вы могли бы взять хлеб у врага?
Граф испытующе смотрит.
И г-жа Каррэ-Ламадон, сидящая против него, отвечает с преувеличенной выразительностью, содрогаясь при этой мысли о подобном кощунстве:
— Я… никогда…
Она откидывается назад, выразительно пожимая плечиками.
Пышка, может быть, услышав эти реплики, быстро оборачивается. Она выпрямляется. Она подымает голову, она крепче зажимает кусок хлеба в руке и вдруг демонстративно придвигается к конвоиру, почти прижимается к нему, словно она ищет защиты у этого спокойного бородатого человека.
Тихо молится, чуть шевеля бледными губами, подняв к небу глаза, младшая монахиня.
Неподвижно сидит, поджав злые губы, старшая монахиня.