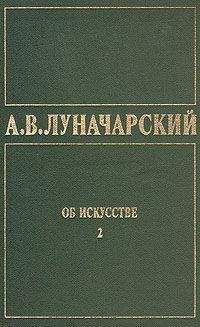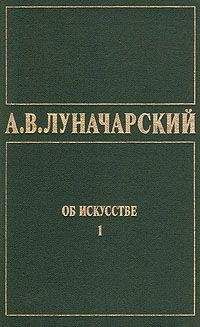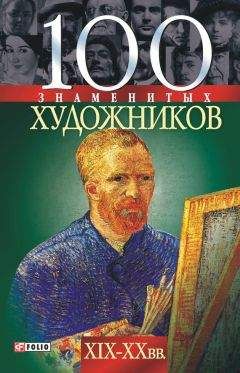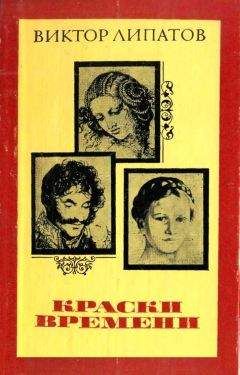Татьяна Маврина - Цвет ликующий
Бытовая фигура — московская пряха с ее особой посадкой, когда прялка с правой руки (видно, так пряли в XV веке). Для чего она сидит у ног Марии, не участвуя в торжественном событии? Чтобы показать неожиданность появления Архангела или для подчеркивания «непорочности» благой вести (при свидетелях)?
Архитектурные арки — цвет фиолетово-серый, через светлую охру соединяются с розовой стеной (иконно-розовой, мне никогда не удается получить такой цвет!) и зеленым домом. Все очень изысканно. И опять ранняя весна, цвета из загородной поездки: сухая пашня — розовая, не зазеленевшая трава и сизо-фиолетовое небо.
Очень выразителен жест удивления Марии — «госпожи»; и рука Архангела, и его светлые крылья вверх и вниз. Светло-красный велум объединяет всё — дома и людей.
Икону хочется взять в руки, приласкать глазами, мысленно погладить за совершенство, достигнутое так незаметно, без нажима и подчеркивания, как будто этот ангел не только возвещал Марии благую весть, а также незримо водил и рукой художника.
Есть у нас и чиновые ангелы: и в рост, и поясные. Об этих двух поясных чудесных крылатых юношах я и напишу.
Я восхищалась ими много лет. Иконы висели очень высоко, под потолком в большой комнате доктора-коллекционера В. В. Величко.
Их крупные формы, большие цветовые куски, напоминали Матисса и этим сплетались с современностью, с моими вхутемасовскими вкусами и очень были привлекательны. Видны издалека.
Сочетание зеленого с особым — не то красным, не то розовым — иконным цветом, очень большим пятном на одежде Архангела Михаила и отголосками его, на другом ангеле. Оба они с небольшими крыльями, энергично подчеркнутыми папортками. Решены классически и в то же время по-народному: у Архангела Михаила в красно-розовом — папортки голубые, у Архангела Гавриила в зеленом — папортки розово-красные.
Так делали и на Севере, и на Волге деревенские ремесленники-художники — на прялках, донцах, сундуках, дугах — по примеру икон — чередуя цвета для гармонии. Неписаный закон декоративной живописи, спокон веков.
Когда эти две иконы попали к нам и были каждый день перед глазами, то их простота и сочность больших кусков цвета стали как бы камертоном на всю жизнь.
Лица их красивы, движки на темной охре очень скромны, белки глаз охряные же, с тонкими ярко-белыми острыми серпиками вокруг зрачков. Кудрями разделаны их головы. Они висят у нас рядом с большой золотофонной иконой «Никола с житием».
Н. Н. Померанцев считает ее «одной из интересных среди известных житийных икон этого сюжета»… «Мастер, писавший ее в первой половине XVI века (видимо, в Ростове Великом), в совершенстве воспринимал живописные достижения Дионисиевской школы. Налицо характер удлиненных фигур и близкая гамма красок»…
Н. Н. Померанцев же и посоветовал нам взять эту икону. Он разглядел на совершенно безнадежном живописном кладбище стройную фигуру воина в знаменитой сцене «Никола останавливает казнь». Это XV–XVI век!
Мы, боясь принести одну труху (висела она в сыром месте), завернули в одеяло большую доску, изъеденную шашелем, вздутую, обсыпающуюся, темную, и унесли домой.
Н. Н. Померанцев порекомендовал нам и реставратора. Пришел молодой человек с ангельскими кудрями. Был он энтузиаст своего дела, расчищал в «Мастерских» самые ответственные иконы, делал копии. Знал это дело в совершенстве. Ему и доверили мы наш XV–XVI век.
Укрепил, по-музейному расчистил, реставрировал утраченные куски. Принес гладкую янтарную доску — открылся Никола в середине и сложный рассказ в клеймах.
Но М. И. сказал — недочищена! Тут должна быть киноварь яркая, тут накладное золото, и белое недобрано, ведь это XV век!
Потом добрали и «белое», засияла и «киноварь», и «золото», голубые горки. Настоящий праздник.
Скомпонованы все 10 клейм классически складно. Но болезнь иконы оказалась все же неизлечимой. И не раз потом приходилось отдавать в реставрацию вздувающийся грунт.
Каждый день перед глазами эта сложная повесть Николиных деяний. (Клейма интереснее середины.) Смотреть надо на прямом дневном свете. То, что фон золотой, киноварь не очень броская, клейма густые сочные, в середине в руке Николы открытая белая книга с красным обрезом, все это придает иконе сложность густонаселенного города, где Никола проповедует свое учение. Мысль художника ясна. Интерьеры и экстерьеры перемешаны очень складно, разглядывать легко и еще легче от примененного художником крестообразного их расположения: два плотных боковых клейма обрезаются орнаментом средника, вверху и внизу по два клейма тесно к нему примыкают. В углах — клейма плавают в золотом фоне. Архитектура везде разная: то купол с главой, то беседка, то шатер, то русские луковицы, то двойной терем. Церкви одноглавые достоверные. На боковом левом клейме даже соединяются велумом. Красная опушка (новая) скрепляет все воедино, красные куски повсеместно небольшие, как неширока и опушка.
На иконе один лишь раз изображена женщина в сцене «Рождества», дальше рассказ идет, как положено в Житии и принято на подобных иконах.
Особенно драматично клеймо «Изгнание беса». На белом фоне башни с черными окошками зеленая дуга чуть ли не современного человека в красных штанах. Велико напряжение этого изгиба, усилие, чтобы выскочил бес, и спокойствие Николы на лазоревой стене некоего города.
Боковое правое клеймо — Никола благословляющий, приветствующий — кого? …Только на нашей иконе встретилась такая сцена.
Три князя, стоящие спокойно, по-княжески, в нарядных княжеских шубах и шапках, с легким приветствием святому — на фоне лазоревых горок, где стоит белый храм с черными окошками и луковицей на барабане (может, русский монастырь в горах?). Никола приглашает их посетить монастырь. Кто эти «князья»? Спасенные купцы (по житию)? Вряд ли. Возможно, заказчики? — высказала предположение В. И. Антонова. Может, это три князя: Борис, Глеб и Владимир? — мои домыслы на основании аналогичных икон, где три князя и Никола: одной из Рыбинского музея и двух из Горьковского.
По четкости композиции это клеймо самое удачное и интересное своей чисто русской архитектурой в голубых горах, русскими одеждами. Сцена ласковая, встреча гостей. Но кого и при каких обстоятельствах, для меня остается загадкой.
По сравнению с «Николой» другая наша многоречивая икона «Рождество» — живописнее и ярче. Она вся, как мозаика из кусков то старого письма XV века, то записей XVII, иногда даже непонятных. В сцене «бегство св. семейства в Египет» (нижний правый угол иконы) два раза изображен сопровождающий их юноша — «Иаков, брат Господень», один впереди, другой сзади — вместо Иосифа.
Реставратор (неведомый) еще раньше эти записи оставил, видимо не найдя под ними ничего от XV века. Получили мы ее из собрания В. В. Величко. Сквозь коричнево-желтый слой очень грязной олифы проглядывали кони, горки, воины, Богоматерь на ложе, много всего очень заманчивого. Промыл ее М. И., и своими яркими цветами она превзошла все ожидания.
Белые кони; охряные горки; темно-голубые одежды, крыши домов, шлемы на воинах Ирода. В середине на красном ложе Богоматерь. Лежит она слева направо. Так писали до Рублева, говорил нам Н. Н. Померанцев. Рублев воскресил более древнее расположение роженицы — справа налево.
Это свое открытие Н. Н. еще не опубликовал. Он очень им гордится. Ведь в иконописи каноны, даты, школы далеко еще не изучены.
Своей сложностью наша икона похожа на знаменитое холмогорское «Рождество» из ГТГ, где еще больше всего рассказано.
Иконный стиль позволяет на небольшом пространстве изобразить очень много разных событий. В нашем «Рождестве» сплошное движение вокруг ложа Богоматери и яслей. Соединено все в единое целое только волей щедрого художника. Он не боялся ни яркости, ни контрастов, ни нагромождений. Получился целый каскад красок, фигур, горок, колючих кустов. Похоже на своеобразный угловатый «кубистический» букет.
Именно форму букета напоминает вся эта композиция, суживаясь книзу, будто ее держит невидимая рука, расширяясь в середине веером, концы не равные, как бы цветочные ветки.
При электрическом освещении она даже похожа на лоскутное одеяло.
Лучше же всего ее смотреть в серый день на боковом свете (доска ее с большой горбинкой не любит отблесков), тогда куски сине-голубого, чистого без белил, особенно ярки. Очень ладно расположены охры: на горках, разбитые оживкой, которая как бы стекает сверху вниз, а в середине на равном ее фоне — здесь фоне «скорби», почти незаметно на расстоянии, прорисованы коричневым козы и убиенные младенцы. Эта же охра «скорби» окружает красное ложе Богоматери. Из пророчества Исайи «Позна вол стяжавшаго, и осел ясли господа своего» остался один лишь осел, если я верно прочитала очертания этого животного (правда, больше похожего на коня). История с волхвами трех возрастов, имена которых нам сохранило время: Бальтасар, Мельхиор, Каспар — рассказана подробно. Мне нравятся все три подробности.