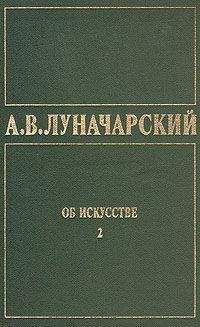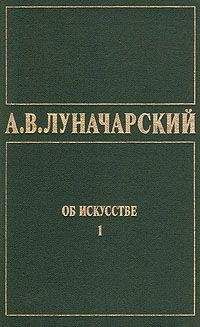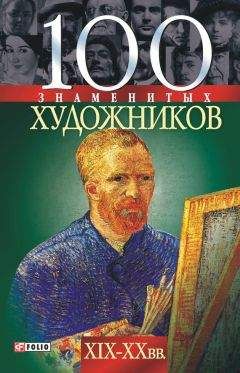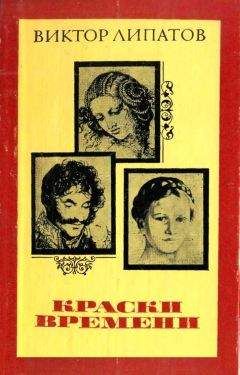Татьяна Маврина - Цвет ликующий
Видимо, это цена иконы — это цифры, но по какой системе написаны?
Николай Васильевич разгадал эту криптограмму, памятуя Эдгара По.
Чаще всего в конце ряда букв стояла буква а. Видимо, это ноль. Но какие слова, обязательно из десяти букв, годятся? 10 букв, где х — единица, а — ноль? «Хлебъ и вода»? Слова в стиле владельца.
В нашей коллекции несколько икон из собрания В. В. Величко сохранили еще эти записочки, сделанные любовной рукой доктора.
Помогал нам в собирательстве М. И. Тюлин — реставратор, из знаменитой семьи Тюлиных — реставраторов. Само знакомство с ним произошло как-то беллетристически, будто прочитали у Мельникова-Печерского.
Мы пошли по указанному нам доктором В. В. Величко адресу в соседний переулок.
Дом искать не пришлось. Шел старичок с палкой (безусловно, по облику старообрядец). Седая бородка подстрижена, пронзительные умные глаза.
— Простите! Не вы ли будете Михаил Иванович Тюлин?
— Я самый!
Он пригласил нас зайти к себе в нижний этаж каменного типично московского дома, где раньше была старообрядческая моленная. Вход со двора, по деревянным ступенькам. Темный коридорчик коммунальной квартиры, пропахший кухней.
У Михаила Ивановича своя комнатка с мутным окном на хламный двор. Стены увешаны иконами и образами с лампадками. Парадная кровать покрыта парчой. Шкап в толстой кирпичной стене дома с зелеными дверцами. Оттуда М. И. доставал неизменный лимон, чашки, пузатый чайник, а то и бутылочку для торжественного случая. Там же хранилась всякая «драгоценная», потому что старинная, мелочь. Заходила тонкая девочка, любимая внучка — Наташа (потеряв мать во время войны, она одна приехала к деду в Москву из Прибалтики). Ей полагалось «сводить чайник в баньку» перед угощением гостя. Самое это угощение — «стаканчик чайку, не угодно ли!» — весь ритуал приема, разговоры — всё продолжало ненаписанные главы романа Мельникова-Печерского.
А особенно праздничные застолья: красивая бело-розовая дородная сноха уставляла стол в большой комнате всеми мыслимыми тогда яствами. Поодаль от хозяина сидела его греческая жена, лицо с фаюмских портретов, рядом почетные гости: Померанцев, Мишуков, Корин, Величко, Ильин. Иногда приходил отец Наташи и после обильных пирогов пел:
…Ходит по полю девчонка,
Та, в чьи косы я влюблен…
И эта современная песня все равно не нарушала старо-манерности праздника. Все, как надо, все, как в романах Мельникова.
Через Михаила Ивановича мы получили доски из собраний В. М. Васнецова, Щусева и других неизвестных владельцев, которых М. И. называл просто «он». — «Он хочет расстаться», «у него есть то-то».
Первая наша икона была «Борис и Глеб».
В издании 1916 года, посвященном Съезду художников в Петербурге 1911–1912 годов, были репродукции с икон В. М. Васнецова. Среди них два князя: «Борис и Глеб», в рост, приземистые, крепко стоящие — пленили нас своей народностью. Какие-то деревенские князья!
М. И. сказал, что наследники могут с ней расстаться, уступить ее нам.
И вот очень большая, темно-желтая доска лежит на столе у М. И., а один кусочек, аккуратный квадрат, размыт на шапке Бориса — белое, красное и черный соболь опушки! Заманчиво! Что-то будет дальше?
Приходили мы к М. И. чуть не каждый вечер.
Раскрыт уже большой кусок выпукло-узорной киновари на плаще Глеба. И лица.
— Лица «домонгольского периода», — говорит чуть не шепотом М. И. — Видите, глаза совсем «монгольские».
Так он выражал свой восторг, переворачивая слова «монгольские», «домонгольские», как символ древности и ценности. Ему нравилось так говорить, а нам слушать.
Ждем, что будет из этой киновари, какой откроется узор, как заиграет точка и клетка на домотканом кафтане князя. Появились красные старые надписи.
Надо ли говорить, что цена доски повышалась от каждого нового открытия: цвета ли, узора ли, или охряного ассиста.
Лица оказались довольно обыкновенные: темная охра, высветленная в «разлив» на шее и на щеках, небольшие «движки» у глаз, на лбу, на носу.
Индивидуальное и очень интересное было решение одежды типа набойки, на кафтане Глеба особенно.
Выпуклости фигуры делались просто ослаблением или усилением белых точек в красных ромбах среди расчерченных клеток — белым по темно-синему. На груди — точки мелкие, на животе — крупные, на подоле тоже. Получалась как бы подсвеченная снизу примитивная выпуклость.
Очень смущали нас с М. И. черные, ровно — по линейке проведенные каймы на бортах шуб-плащей. Не очень это вяжется с деревенским узором тканей. Так же жестко решен горностай подбивки шуб и собольи воротники, что-то уж чересчур аккуратны! М. И. попробовал эту черную кайму в одном месте смыть, но дальше не стал этого делать, потому что на смытом месте не оказалось завершения плаща. Загадка осталась нерешенной. Но эти по линейке проведенные черные вертикали делали очень твердым и устойчивым стояние князей на зеленоватом позьме.
Все пришли в совершеннейший восторг, когда на сапогах Бориса открылись жемчуга. Цена иконы еще подскочила. Но этого и стоили два «поджемчуженных» сапога!
Мы вместе с реставратором восхищались освобождением древнерусских князей из-под коричневой олифы.
Искусны были полторы руки М. И. при ее расчистке. Полторы, потому что левая его рука была прострелена каким-то бандитом и представляла из себя негнущуюся культяпку, которой он очень ловко помогал правой. Он не просил никогда ему пособить — взять ли что, надеть ли пальто, завернуть ли икону.
Когда привезли «Бориса и Глеба» домой и повесили на стене, то гордость нас переполняла. Чего не сделал В. М. Васнецов, сделал Михаил Иванович Тюлин — подарил миру настоящее, очень оригинальное произведение древнерусского искусства. «Борис и Глеб» всегда князья, и по их одежде можно судить о моде на княжеские одежды в те годы, когда писалась икона.
На наших князьях интересен очень достоверный, отороченный жемчугом, клапан на шубе Глеба. Сапоги с охряным ассистом у Глеба, с жемчугами у Бориса. Такие носили в XVI веке, а может, и раньше. Мечи у них тонкие, вроде крестов. Держат их вялые невоинские руки младших сыновей Владимира: князей Муромского и Ростовского. Фон чуть голубеет. Золота нигде нет. Киноварь плотная, красивого мягкого оттенка. Оторочка одежды — охра с каменьями и жемчугом. Праздник их 2 мая.
М. И. чтил праздники своих икон, как близких людей. Зажигал лампадки: то Николе, то Власию, то Параскеве Пятнице. Было у него чудесное шитье, серебристо-фиолетовое, с изображением этой святой. К кому оно попало? Я не знаю.
Наша икона «Борис и Глеб» считается сейчас — Ярославской школы XV–XVI веков. Судя по ее народности, она писана не в самом Ярославле, а где-либо поглуше, для церкви. Может быть, вклад богатого воеводы, похоже на семейный портрет. Очень она необычная, теплая, домашняя, мужичья.
Была она когда-то реставрирована кем-то. Об этом говорит беспомощно повисшая с мечом «ручка» Бориса и темные куски внизу. Наверное, по правилам «иконописного подлинника» ножичком оскабливали «олифу» в «ровность» и «исподволь щелоком или мыльцем протирали» для «мягкости». Михаилу Ивановичу досталось очистить ее от вековой грязи.
Небольшая икона «Сретение» (ставлю их рядом для контраста) совсем из другого мира.
С волжских берегов сразу перенесешься в столичный город Москву. На иконе трогательная сцена среди каменного нагромождения построек, которые не то валятся, не то кланяются фигурам, спереди стоящим, не то слушают их немой разговор (Симеон — значит «Услышание», а лет ему 360!).
Фигуры длинные, длинные, как современные молодые люди. На них не кафтаны и шубы, а «античные» драпировки. Складки струятся, ломаются, свисают с согнутых рук Симеона Богоприимца, изузорены оживками, похожи на весенний ручей, что вчера я видела в лесу.
А в середине темный очень выразительный силуэт Марии, раз и навсегда найденный в нашей иконописи.
Группа скомпонована прекрасно, но есть одна неловкость — черный проем двери неоправданно приклеился к центральной фигуре. Выходить оттуда Мария не может, потому что дверной проем где-то за пределами дивно-зеленого позьма, на котором она стоит.
Судя по тому, что на полях изображены святые Петр и Павел, Василий и Никола — икона писана по заказу какой-то семьи, для богатого дома, в столичной мастерской, где ценилось тонкое и изящное письмо.
К той же Московской школе, к кругу Рублева, относят и нашу самую прелестную икону — «Благовещение».
Евангельское событие изображено мягко, и по бытовому и величественно, благодаря необыкновенному композиционному и цветовому дару большого художника, писавшего ее в XV веке.
Несмотря на ее малый размер, почти миниатюрное письмо, видна очень умелая рука, видно, как наносилась краска на лицах и на доличном. Икона хорошей сохранности, сохранилась даже нитка у пряхи. А сама эта пряха — неожиданный подарок нашему любопытству.