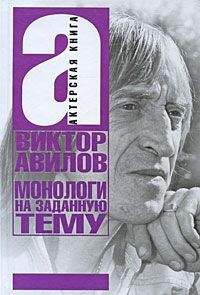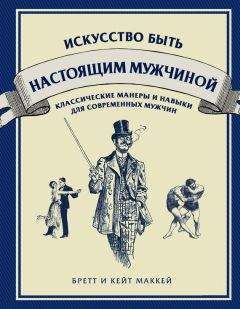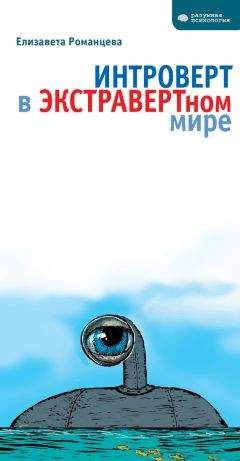Вениамин Фильштинский - Открытая педагогика
В связи с этим я также вспоминаю работу нашего прошлого курса «Время Высоцкого». Опыт учебного спектакля, мне кажется, оказался принципиально важным в методическом плане и послужил хорошей школой для наших выпускников, серьезно работающих в петербургских и московских театрах и в кино. Я имею в виду К. Хабенского, М. Лобачеву, О. Родину, М. Трухина, И. Шакунова, М. Пореченкова, А. Зиброва, А. Имомназарова, В. Хаапасало, а также А. Прикотенко, который нынче пробует себя в режиссуре.
Мои поиски продолжаются, и надеюсь, мы еще не раз будем возвращаться и к нашему диалогу с Вениамином Михайловичем.
1999 г., июль
В.Ф. Юрий Харитонович, еще три года пролетело. Скоро уже июль 2002-го. Уже даже век другой: прошлый диалог мы писали в XX веке, а сейчас XXI. Хочу напомнить, что у нас за плечами еще один курс — курс, где учились Калинина, Раппопорт, Юлку, Тройницкая, ди Капуа и так далее. Они уже работают, даже известны, все сложилось нормально. Курс, где помимо «Дяди Вани» были спектакли «Я — птица» и «Веселится и ликует» с финалом балетных старушек…
Ю.В. Это была самостоятельная работа, эту сцену они придумали сами.
В.Ф. И прекрасно! И, наконец, было два спектакля принципиальных с точки зрения пластики: «Венецианка» Михаила Груздова, где пластика даже важнее, чем текст, и ваш самостоятельный спектакль, чисто пластический — «Антропология». Три года, а столько всего произошло. Помимо совместной работы мы работали и параллельно. Вы пополняли опыт в своей хореографической деятельности в Австралии, во Франции, в оперных проектах Л. А. Додина, а я поставил с другим хореографом — что мне тоже дало новый взгляд на наше сотрудничество, — с Сергеем Грицаем два спектакля: «Софья Петровна» и «Двое на качелях». Воды утекло много, и вот уже у нас новый набор, уже сданы экзамены за первый курс и по мастерству актера, и по танцу. Мне бы хотелось начать наш разговор с ваших вопросов ко мне.
Ю.В. Не столько с вопросов, сколько с упоминания об этих двух спектаклях: «Венецианка» и «Антропология». Они по-разному рождались. «Антропология», если помните, из заключительного зачета, в который входила задача вспомнить то, с чего начинали, но вернуться к тому мышлению, сочетая пройденный путь приобретения навыков танца и природные способности ребят. Мы использовали и классический тренаж, и игры с палками, и характерный танец, и элементы джазового танца, чтобы вернуться к тому, что мы называем пластическим мышлением. Я даже не ожидал, что этот зачет может вырасти в спектакль, а отыграли мы его двадцать раз. Если помните, Игорь Стушшков и Николай Боярчиков отмечали, что трудно себе представить такой спектакль, сделанный артистами балета — и по содержанию, и по выражению. Главным для нас все-таки представлялась не балетная форма, а атлетичное выразительное тело. Что касается «Венецианки», здесь все было поставлено на классическом танце — на дуэте. И адажио были хореографические, почти полноценные. Но в этом спектакле, тем не менее, волновало соединение слова и движения, того движения, которое дополняет слово. Меня привлекала постановка того, что нельзя сказать — или того, чего нет в тексте, или того, что домысливается и предполагается в отношениях между персонажами. Я понимаю, что в каждом драматическом спектакле это совсем незачем, и иногда даже танцы кажутся мне лишними, потому что танцевать не о чем. И тогда танец приходится использовать как костыли для веселости, для разнообразия. А в «Венецианке» не хватало событий, сцен, в которых бы раскрывались взаимоотношения персонажей.
В.Ф. Скажем, любовные эротические дуэты в пьесе только подразумевались, а в спектакле с вашей помощью нашли определенное выражение и продолжили повествование.
Ю.В. Мне кажется, это и определило соотношение танца и текста. Не должно было возникать вопроса: а почему в драматическом спектакле танцуют? Мне кажется, это удалось. Ребята были к этому подготовлены — так же, как в свое время в МДТ Тычинина с Курышевым спокойно танцевали практически балетные дуэты. В этом смысле наши ребята оснащены, может быть, больше, чем на других курсах и в других театрах. В этом контексте я бы еще упомянул и спектакль Андрея Прикотенко «Эдип-царь».
В.Ф. Это уже требует комментариев. «Эдип-царь» — спектакль наших выпускников, органически продолживший наше обучение. Прикотенко — наш выпускник, режиссер, а все три актера — Ксения Раппопорт, Тарас Бибич и Джулиано ди Капуа — наши ученики. Они совершенно обучены вами в этом отношении, они самостоятельно сочинили такую хореографическую партитуру, которая не всякому хореографу может прийти в голову.
Ю.В. Не то что хореографам… Но человеку со стороны трудно было бы предложить им такую партитуру. Я в шутку сказал им, что если режиссеры и актеры будут так сочинять хореографию, то балетмейстерам недолго и без работы остаться. А, серьезно говоря, здесь есть повод гордиться. Я не касаюсь проблем жанра трагедии, но что касается пластического мышления, его ощущения и существования в пластическом тексте — это уже не просто эмоциональный жест, это найденная форма, которая создает эстетику и поэтику спектакля, — здесь как раз можно говорить о почерке наших студентов и их отличии от других. Естественно, и «Венецианка», и «Антропология», и «Эдип» меня заставили еще раз подумать и перед нынешним набором, чтобы в процессе первого года обучения вернуться к вопросу о том, зачем в актерской мастерской заниматься танцем. Казалось бы, вопрос смешной, банальный и риторический…
В.Ф. Этот первый курс и наше последнее общение, связанное с совместной работой над спектаклем «Гамлет», кажутся мне более зрелыми. На этом курсе все идет немного по-другому, потому что возникли новые тренинги. Тренинги но актерскому мастерству, проводимые Ларисой Грачевой, — новое внимание к воображению, новое ощущение свободы актера, предполагаемой нами и но возможности осуществляемой. Я думаю, что мы интегрируемся сильнее, чем прежде. Это не комплимент, а факт: вы преуспели в восприятии нашего предмета — актерского мастерства, ваши заботы простираются гораздо дальше, чем пластика, распространяются на более важные вещи. Оглядываясь на «Антропологию», я могу смело ее критиковать, хотя это хороший спектакль, он показывался даже на мастер-классе в Эстонии. Однако там наблюдения студентов и пластическая фантазия еще не слились так, как надо. У меня были претензии к ним: они оторвались от наблюдений за животными, порой возникали пластические знаки абстрактных животных. А сейчас мы настолько подробно занимаемся одновременно наблюдениями и физическим самочувствием, и анализом драматургии, что, мне кажется, идем в более органическом потоке осознания всего, что делаем.
Ю.В. Буквально сейчас я подумал вот о чем. В этот набор мне удалось очень внятно провести в течение двух семестров программу, которая у меня созрела и сформулировалась в последнее время. Зачет получился удачный, ребята в целом на должном уровне все освоили. Но вы говорили о свободе и о тренингах на актерском мастерстве. Да, у нас есть консолидация. Но если у вас в тренинге идет наблюдение за животным в натуралистическом плане, в попытке воспроизвести физиологию, то у меня по программе первого семестра концертмейстер подбирает такой материал, который бы поднимал из физиологических вещей. Чтобы природу, землю, животных студенты слышали из музыки. Объясню, почему. Зачем нужен танец? Любой смотрящий человек скажет: «А как же не заниматься танцем?» Но, тем не менее, на кафедре пластического воспитания в ряду других предметов танец очень выделяется.
В.Ф. И должен выделяться. В последнее время мы говорили о приоритете танца.
Ю.В. А он сформулирован как прикладной предмет. Потому что акробатика, фехтование, пантомима, сцендвижение — это все-таки предметы, действительно, прикладные и во многом технологичные. А танец — художественный предмет. Он представляет собой первородное актерское мастерство, в нем сразу проявляется мышление и стремление к художественному процессу: воображение, подражание, придумывание движений… Помните, я ребят спрашивал: когда бытовое движение превращается в танцевальное? Скажем, элемент вышивки. Или шаг. Или бег оленя. Это же уже творчество… Поэтому, мне кажется, нужно обратить внимание, прежде всего, на то, как в танце отражается мироощущение, восприятие жизни. Я в связи с этим даже подумал о тестах при наборе — они не новые. Например, мы просим абитуриента ходить под музыку, но в это время включаем музыку высокого класса. И просим просто прогуливаться под нее. Как он слушает, как повернется, какой у него шаг будет, куда потянет это слушание… Мы увидим, как потянется тело за звуком, как сожмется, расслабится… В этом тесте можно обнаружить врожденные способности. Второе задание — импровизация. Это уже на народном материале. Здесь всякая неловкость и неумение могут оказаться выражением безусловных рефлексов, которые в своей нескладности будут органичны. Эти рефлексы говорят нам о способности пластического восприятия. Домашние заготовки нам покажут другую сторону: условные рефлексы, которые выработались у юноши или девушки в течение жизни. Занимался ли он аэробикой, спортом, ходил ли в кружок. В выученных танцах это сразу скажется. И можно выявить соотношение рефлексов на импровизации и условных. Здесь и обнаруживается способность к восприятию. Я думаю, что тело актера — не просто инструмент, как мы его обычно воспринимаем. Мейерхольд обращает внимание на рефлексы. И если мы оставляем традиционно танец в ряду других пластических дисциплин, он поневоле становится прикладным. Но если мы относим его к художественным предметам и рефлексы перекладываем на тренинги актерского мастерства, — танец становится близок актерскому мастерству.