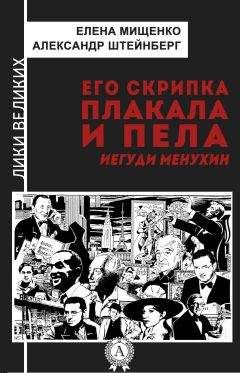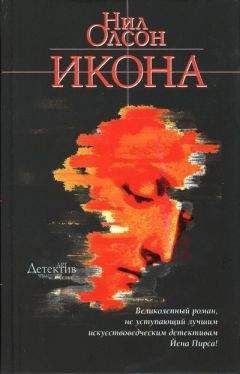Иегуди Менухин - Странствия
Румынское правительство и министерства постоянно приглашали меня в Бухарест. Благодарность и преданность моему учителю, Джордже Энеску, сблизила меня с некоторыми выдающимися румынами. Но уже в 1946 году мне были совершенно очевидны те махинации, в результате которых Советы и их румынские прихлебатели захватили власть. Для достижения своих циничных и грязных целей они все время старались использовать оказанный мне теплый прием: сфотографировать меня или неверно истолковать мои слова. Посетив Румынию во времена страшного режима Чаушеску, я не стал миндальничать. Я сказал, что меня пригласили в тюрьму и что власти превратили прекрасную страну в исправительную колонию.
Больше я не ездил в Румынию до октября 1995 года. Тогда я привез с собой “мой” Лондонский королевский филармонический оркестр на открытие Фестиваля Энеску. Непременным условием моего визита был приезд принцессы Маргариты, дочери короля Михая, которая курирует благотворительные организации Румынии. Она глубоко сочувствует нуждам детей и престарелых, шефствует над больницами и приютами (я посетил некоторые из них и пожертвовал им свои гонорары).
Концерт открывался Сюитой для оркестра № 1 оп. 9 Энеску. Это драматически напряженное, мелодичное сочинение вызвало бурю оваций. Соло в скрипичном концерте Брамса играл Ливиу Прунару, блестящий молодой румынский скрипач из моей Академии в Гштаде, который получил вторую премию и приз публики на Конкурсе королевы Елизаветы в Брюсселе.
Во время антракта директор фестиваля, солидный пожилой господин, чуть ли не в слезах умолял меня не приглашать принцессу Маргариту на сцену, где я намеревался вручить ей чек. Первоначально она хотела вместе со мной подняться на сцену, однако благоразумно осталась на своем месте — в третьем ряду, посередине.
Выходя на сцену, я заметил, что камеры, предназначенные для записи всего концерта, бездействуют; через несколько минут я узнал, что и радиотрансляция переключилась на другие события. Видя позади себя большой портрет Энеску, я, естественно, в первую очередь обратился со словами любви и благодарности к нему — величайшему из всех румын, человеку, впитавшему необычайно богатые музыкальные традиции; но я упомянул также и о его пожизненной преданности монархии, просвещенному двору, и о тех остатках феодальных традиций, которые до сих пор объединяют народ сознанием взаимных обязательств.
Когда я рассказал о своем общении в детские годы с королем Михаем, который был на несколько лет моложе меня, о нашей встрече в 1945 году и о благородной деятельности его дочери, принцессы Маргариты, публика ответила шумными овациями. Принцесса встала и приняла от меня конверт, который передали ей по рядам.
Под конец концерта энтузиазм достиг такого накала, что президент Румынии не мог оставаться в стороне. Он бросился на сцену, пожал мне руку и сказал несколько слов. Последовал грандиозный прием в том же чудовищном здании, что и концерт, — там все вчетверо превосходило нормальный человеческий масштаб. Чаушеску построил его на крови своего бедного измученного народа (артистическая дирижера, отделанная мрамором, дорогим деревом, с огромным ковром и огромным роялем, была размером почти с Вигмор-холл!).
Я стоял рука об руку с принцессой, и когда мне предложили передать вклад не в ее благотворительный фонд, а музыкальной школе, я ответил: “Музыкальная школа относится к вашей сфере ответственности, я же приехал помочь принцессе Маргарите”.
Нас также представили некоему самозваному претенденту на трон с его детройтской подругой; их обоих щедро поддерживало румынское государство, чтобы опорочить все сразу — и короля, и монархию. Это было то еще зрелище, особенно если сравнить украшенную бриллиантами декольтированную детройтскую даму с моей дорогой принцессой Маргаритой, державшейся со скромным достоинством.
Наконец-то я мог говорить откровенно — и с корреспондентами могучих государственных радио- и телеканалов, и с представителями строго контролируемого “частного” телевидения. Я находился под священной защитой Энеску — под его портретом, и остро чувствовал, что правящая партия Румынии просто из кожи вон лезет, чтобы казаться “цивилизованной”.
Почему же мужчины (женщины тоже, но гораздо реже) из-за упрямства, жадности, жестокости и невежества делают собственную жизнь и жизнь своих подданных столь жалкой и короткой? Впрочем, почитайте “Макбета”, “Короля Лира”, “Гамлета” или “Отелло”.
Если Энеску помогал мне в Румынии, то Барток уже после своей смерти сослужил мне ту же службу, когда после войны я вернулся в Будапешт. К 1946 году национальный герой Венгрии уже несколько месяцев как умер. Но я знал его лично, играл его сочинения, он написал для меня сонату; и этих свидетельств дружбы было достаточно, чтобы венгры встретили меня с открытой душой. Иногда, когда залы были переполнены, на улице устанавливали громкоговорители для тех, кто оставался стоять на площади.
Мне кажется, что самая богатая культура рождается на пересечении восточных и западных традиций. Венгрия, как и Австро-Венгерская монархия в целом, сыграла роль своего рода культурного фермента. Тут смешались и фольклор самой Венгрии — изначально азиатский, и влияние турок, которые подошли к воротам Вены и, отступив, многое оставили после себя, и балканская традиция, и немецкая, и французская, и итальянская; как и у евреев, оставило свой след и хазарское наследие. Таким перекрестным воздействиям — с востока и запада, с севера и юга — подверглась в особенности Вена. Это город, где почти все в той или иной форме музицируют, и нет никого, кто не знал бы хоть что-то о музыке. Даже сегодня музыка составляет самую суть венской жизни. Последствия этого порой бывают и отрицательными, ибо венцы проявляют живой интерес не к политике, дипломатии и коммерции, а к оперному театру.
Подобно тому, как в далеком прошлом Вена привлекла к себе Моцарта, Бетховена, Брамса и обогатилась плодами их творчества, так в нашем столетии городом музыкального паломничества стал Будапешт — правда, более веселым, сумасбродным и волнующим, чем, казалось бы, подобает быть месту паломничества. В нем музыкальная утонченность парадоксальным образом сочетается с некоторой распущенностью общественных нравов. К сожалению, я плохо знал Будапешт в период межвоенного расцвета, когда величие Бартока определяло музыкальное сознание нового независимого государства. Во время моего первого краткого приезда туда в 1930 году я был слишком молод и несамостоятелен, чтобы во всей полноте почувствовать очарование города, а впоследствии оно было в значительной мере (хотя и не до конца) стерто зигзагами истории.
Очень ярко, хотя и с чувством некоторого стыда, мне вспоминается роскошный обед, устроенный отцами города на открытом воздухе при участии продовольственной фирмы “Гербо”. В потрепанном войной Будапеште были перебои с продуктами, но бесстрашные венгры отнеслись к трудностям как к вызову судьбы и закатили пир, который ныне вызывает ностальгию по тогдашнему чревоугодию. По понтонным мостам через Дунай важно шествовали оборванные жители Будапешта, будто в эти тяжелые времена они получили богатое наследство, — с таким торжествующим видом не ходят даже представители народа-победителя, не говоря уже о побежденных. Блаженное неведение о поражении позволяет фениксам вновь возрождаться из пепла разрушенных надежд. Но без другого качества — выдержки, а еще лучше — хитрости феникс обречен снова быстро сгореть в роковом пламени славы.
В отличие от поляков, столетиями чужеземного владычества наученных искусству выживания, в отличие от практичных и расчетливых румын, которые даже несчастья умеют обратить себе на пользу, венгры всегда заходят слишком далеко. Я снова был в Будапеште за несколько месяцев до восстания 1956 года. Тогда на пресс-конференции мне пришлось отвечать на вызывающе дерзкие вопросы, которые показывали: люди, задающие их, категорически отказываются признавать незначительное место Венгрии в мировом балансе сил.
Когда русские установили там марионеточный режим, я сомневался, стоит ли мне возвращаться в эту страну: одна часть моего “я” хотела выразить солидарность с побежденными, другая подсказывала, что, выступая в Венгрии, я не смогу избежать обвинений в симпатиях к ее новым лидерам. Я послушался второго голоса и несколько лет не ездил туда. Со временем мой протест утратил смысл, однако, когда, наконец, я вернулся в Будапешт и мне предложили государственную награду, я дипломатично от нее отказался. Несомненно, режим Кадара при тех обстоятельствах был единственно возможным. Несмотря ни на что, он развивался сравнительно гуманным путем, и хотя Румыния как государство была менее зависима от советского патронажа, непокорные венгры пользовались такой индивидуальной свободой, которой румыны не знали.