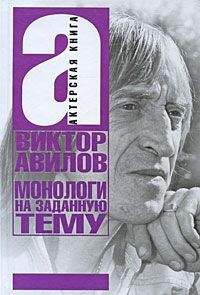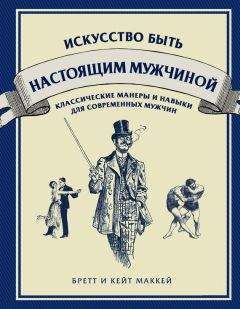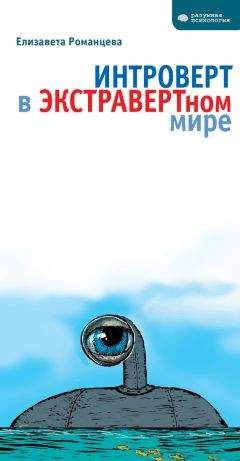Вениамин Фильштинский - Открытая педагогика
У Волкова звучит прямо: «Нашего личного участия все меньше и меньше».
Позднее на Таганке Эфрос поставил пьесу «Вишневый сад». Мнения об этом спектакле разноречивые: одни вспоминают с восторгом, другие жестко критикуют. Но дело опять-таки не в результате. Нас интересует методология. Обращает на себя внимание то, что написала Алла Демидова: «Многие не берут его рисунок, может быть, не успевают». Сама формулировка свидетельствует: на Таганке сотворчество режиссера и актеров состояло во многом в том, что актеры должны были «брать рисунок» режиссера. Это, конечно, уже совсем иной метод.
И вот симптоматические строчки у самого Анатолия Васильевича в книге «Продолжение театрального романа»: «Надо бы вернуться к «безвольным» репетициям, к таким, которые бывали у нас когда-то, когда все мы были помоложе. Я имею в виду вот что, в последнее время приходилось не только подробно разбирать с актерами внутренний психологический рисунок, но и подсказывать все краски для выражения этого рисунка. Я просто проигрывал тот или иной кусок чьей либо роли прежде, чем актер опомнится. А поскольку показ, если он более или менее убедительный, гораздо сильнее врезается в сознание, чем разбор, то иногда, в конце концов, запоминался и повторялся предлагаемый результат без точного осознания внутреннего процесса. Несколько раз я делал попытки остановиться и взять другой курс, но репетируемые пьесы, как назло, требовали очень крутого режиссерского вмешательства, и я откладывал обновления. И вот когда я решил проводить спокойные, безвольные репетиции, казалось, что на подобное «спокойное безволие» требуется куда больше воли, чем на все другое, ибо ты уже не заражаешь никого своей эмоцией и своим азартом, а должен стимулировать чужое воображение только точным анализом. /…/ Нужно искать новые стимулы для самостоятельного актерского творчества».
Это удивляет. Думаешь, зачем же новые стимулы искать? Ведь в действительности и, кстати, с его, Эфроса, участием уже была найдена в свое время корневая методика «самостоятельного актерского творчества», это этюдная методика в широком смысле слова. А вот набор приемов Эфроса в последний период его творчества, как мне кажется, не этюдный. Безусловно, блестящий эфросовский, как А.В. его называет, — «структурный анализ», или «структурный эмоциональный анализ» пьесы делал свое дело, но во всем этом все меньше и меньше стал предусматриваться актер. Такое, во всяком случае, складывается впечатление.
Приведу еще строку из Александра Збруева. Про последний месяц работы с Эфросом в Театре на Малой Бронной: «Эфрос, мне казалось, считал, что уже все про меня знает, я его больше не интересовал…».
Возможно, я несправедлив. Может быть, мечтаю об идеальном режиссере-педагоге, ищу в выдающемся режиссере еще и глубокого заинтересованного педагога, но факт есть факт. У А. В. Эфроса вкус возиться с артистами (этюдно-неэтюдно, неважно), доставать нутро артистов — иссякал.
А вот интереснейшие воспоминания Михаила Козакова. Он, естественно, воздает должное Анатолию Васильевичу как выдающемуся режиссеру. Говорит о том, что его привлекали в режиссуре Эфроса поиски нравственного самосовершенствования: «Эфрос первым из наших режиссеров обратился к поискам нравственности в нашей безбожной жизни».
Козаков признает также, что «многому научился у Эфроса и как актер, и как режиссер».
Но я остановлюсь на методических нюансах.
Прежде всего, естественно, на этюдности, которая на Малой Бронной вначале еще сильно проявлялась. В чем же? Ну, скажем, в том, как Эфрос читал пьесу. «Он читал пьесу как замечательный актер, творил на наших глазах, при нас искал верный ход, прилаживался, часто говорил: «Подождите, я сейчас «раскручусь!» Он обязательно должен был «раскрутиться» и никогда не предлагал решения, идущее от холодного ума. Он шел иным путем — чувственным, интуитивным».
Это замечательно, потому что напоминает тот знаменитый случай у Станиславского в книге «Работа актера над ролью» в последнем ее итоговом разделе — «Ревизор», когда Торцов, то бишь Станиславский, не только объясняет ученикам способ игры, но идет на сцену сам, идет проигрывать за Хлестакова момент прихода его в гостиницу… И вот это проигрывание эпизода Станиславским рифмуется у меня с вышеописанным случаем, когда Эфрос говорит: «Погодите, я раскручусь». То есть, режиссер и тут тоже не только руководит актерским процессом, а находится сам в этюдном самочувствии, сам делает этюд и своим режиссерским организмом тоже добывает в этюде какую-то истину о поведении человека. Вот это очень и очень интересно, потому что это, с моей точки зрения, и есть этюдный метод, в который входит, но Станиславскому, этюдная проба самого режиссера. Это, по-моему, важно.
Козаков пишет, что никакие мизансцены Эфросом не закреплялись, что Эфрос умел самыми разнообразными способами вернуть затертому слову первоначальный смысл — это тоже признаки этюдности.
И в то же время по воспоминаниям угадывается, как этюдность уходила из методологии Эфроса. Во-первых, по Козакову, актеры ходили с тетрадками. Режиссер поднимал их на ноги почти сразу, по двигались с ролями в руках. А вот это уже мне кажется довольно-таки сильным методическим компромиссом. Тетрадка, безусловно, сковывает артиста — вряд ли, имея тетрадку в руках, актер может находиться в свободном творческом самочувствии. Козаков пишет и о том, что артист у Эфроса мог импровизировать только «в своем квадрате». А такое изначальное ограничение актерской свободы нам сейчас кажется некорректным. Далее актер рассказывает, как в «Дон Жуане» они репетировали в очередь — он и Николай Волков:
«Волков являлся для Анатолия Васильевича чистым белым листом, на котором режиссерский рисунок ярко проступал для окружающих. Я же был разлинован и запачкан разными красками. Да еще местами прорывалось мое собственное хорошее или плохое, но весьма заметное индивидуальное начало».
Ну, вот!.. Это место перечитываешь несколько раз в надежде, что тут какая-то ошибка, и все же выходит, что Эфросу мешало индивидуальное начало актера. Что, по-моему, уже совсем небезобидно.
Вдумаемся еще и в следующее соображение Козакова: «Я всегда незаметно для Эфроса, зная, как он не любит характерность, вводил все-таки некоторые облегчающие мне работу — приспособления. Эфрос этого не признавал, и мы часто спорили. Он считал, что надо играть «от себя», а мне не всегда это удавалось».
Тут, пожалуй, не встанешь однозначно на сторону Анатолия Васильевича или на сторону Михаила Козакова. С одной стороны, театральные шестидесятники, борясь за сценическую правду, отказывались от лжехарактерности, от кривляния, с другой стороны, неприятие настоящей характерности означает ограничение актера в поиске итогового, глубинного перевоплощения. Конечно, здесь могли бы быть всякие нюансы. Козаков мог быть в своих попытках поймать характер нарочитым. К тому же, не всякий актер способен к острой внешней форме. И, тем не менее, определенное стеснение актерской свободы, по-моему, присутствовало в творчестве Эфроса его последнего периода. Может быть, поэтому его спектакли чуть-чуть уходили от жизни в сторону стилизации. Безусловно, они были поэтическими, импрессионистическими созданиями большого мастера, режиссера-художника, режиссера-поэта… Однако импрессионизм Эфроса все-таки что-то важное терял. За скобки выносилась, как мне кажется, личность актера в полном ее своеобразии и богатстве. Это ведь серьезное огорчение Козакова, что, мол, не нужна была режиссеру его творческая индивидуальность. Да ведь и Збруев высказывался примерно в этом духе.
Повторяю, мне очень не хотелось бы касаться спектаклей Эфроса. Это замечательные творения. Но для продолжения разговора о методологии я хотел бы привести выдержки из замечательной статьи тончайшего исследователя литературы и театра Н. Я. Берковского. О спектакле «Ромео и Джульетта» он пишет, что постановщик создал «большой и единый стиль» и сделал «усилия охватить этим стилем всех и каждого из участников». Отмечая художественную мощь Эфроса, он в то же время видит недостаток лиризма у актеров. С его точки зрения, «лирическая суть шекспировской драмы остается полуразвитой…», что при всей законной боязни режиссера и актеров быть пошлыми, впасть в выспренную эмоциональность, эмоциональность все же должна «где-то и когда-то показаться во весь рост и в обнаженном виде». Интересное наблюдение… И если Берковский прав, нет ли тут какой-то связи с тем, что актеры не получили полной, личной, индивидуальной творческой свободы? А если справедливо такое предположение, то, может быть, — это следствие того, что этюдная методика как способ раскрытия актерских сил, актерских глубин уже не использовалась Эфросом.