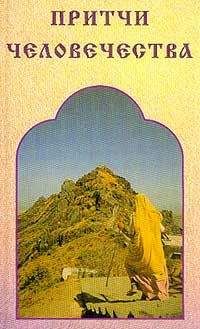Галина Леонтьева - Карл Брюллов
Брюллов словно бы из будущего смотрит на своего героя, провидя и то, как в дальнейшем раскроется его собственная натура, и то, какие веяния выражаются в этом характере, и то, как эти веяния будут восприняты русским обществом. Такого многосложного, такого глубоко психологического, такого реального и по содержанию, и по приемам, такого, наконец, сложно сопряженного с самой эпохой образа русская живопись до портрета Кукольника действительно не знала. Пришел день, когда автор мог поставить под работою подпись, означив тем самым, что портрет окончен. На долгое время картина останется в мастерской. Кукольник, каким тогда увидел, каким угадал его Брюллов, будет безмолвным свидетелем дружеских сходок, глядящим со стены взором печальным и скептическим на гостей, на своего создателя, на самого своего прототипа, который, по словам современников, совсем скоро утратит сходство с тем образом, что создал художник.
Первый год жизни на родине шел к концу. Брюллов за столько лет отсутствия успел позабыть, какое тягостное чувство рождала в нем петербургская осень, с коротким темным днем, балтийскими ветрами и нескончаемыми дождями, с запахами тлеющей листвы, с горьким вкусом увядания. В эту пору он делался взвинченным, надолго впадал в трясину дурного настроения. Крохи света, появлявшегося ненадолго в кратком течении дня, почти не давали работать красками. Волей-неволей досуга для дружеского общения оказывалось предостаточно.
Брюллов, как и вся Россия, как и сам Пушкин, не знал, не предчувствовал, что истекал последний год жизни Пушкина, жизни с Пушкиным, при нем, рядом с ним. С его гибелью кончится целая эпоха, без него не только станет иной литература — все, сама жизнь, сам воздух России будут иными. Если б это дано было предчувствовать… Если б это дано было предчувствовать, Брюллов бы, наверное, всякую минуту отдавал общению с Пушкиным, летел бы к нему на Мойку, звал к себе. Они видались довольно часто той осенью, но ведь и «часто» — понятие условное: если впереди многие годы жизни, это одно, а если предел, конец совсем рядом, за ближайшим поворотом пути, то и самого частого «часто» покажется потом мучительно мало… Многое было бы иначе, если б нам было дано видеть день текущий с высоты грядущего.
Долго не мог Брюллов забыть какого-то горестного, тяжелого чувства, оставшегося в нем после одного визита в дом на Мойку. Пушкин был весел, горячечно оживлен. Прервав вдруг фразу на полуслове, вышел в детскую и вернулся в окружении детей, с новорожденным младшим на руках. На минуту зашла Наталья Николаевна, нарядная, благоухающая — совсем готовая отправиться в гости. Еще в Москве, во время одной из первых встреч, Пушкин как-то сказал Брюллову: «У меня, брат, такая красавица жена, что будешь стоять на коленях и просить снять с нее портрет!» Брюллов смотрел сейчас на нее, высокую, по-царски статную, с немыслимо тоненькой талией, — и впрямь красота ее так ярка, так волшебна, что кажется каким-то высшим даром, чем-то вроде особого таланта, что ли. И все же у Брюллова так никогда и не возникло желания ее писать, хотя он любил писать красивых женщин. Брат Александр — тот увековечил красавицу Натали в прелестной акварели. Карл же не мог преодолеть своей смутной неприязни. Может, отчасти виною тому был тот самый осенний вечер: на миг вдруг тяжелое, неприятное чувство охватило художника — таким чуждым, ненужным, мешающим показался весь этот домашний мир, тяжким бременем лежащий на плечах поэта, бесцеремонно вторгающийся в уединенную сосредоточенность поэтического мира… Да к тому же Брюллов уже знал — 4 ноября и до Пушкина дошел мерзкий пасквиль — «диплом ордена рогоносцев», распущенный по городу во множестве экземпляров.
Волею судеб у Брюллова и Пушкина еще до личного знакомства сложился общий круг близких людей: Жуковский, Глинка, братья Виельгорские, Михаил и Матвей, Вяземский, Одоевский. Теперь Пушкин с удовольствием вводит Брюллова, так полюбившегося ему, в круг новых людей. Первым был Гоголь, теперь вот еще и семейство графа Фикельмона, австрийского посланника, к жене которого, Долли, Пушкин питал нежные чувства. Брюллов уже написал прелестный портрет дочери Долли, а вскоре увековечит и суровые черты самого посланника, графа Фикельмона. У многих из общих друзей сейчас, в темную осеннюю пору, часто бывает Брюллов, встречая там Пушкина, нередко многие из них, тоже с Пушкиным, приходят в просторную мастерскую Брюллова.
Наступил новый, 1837 год. Как-то раз в январе — ученик Брюллова Мокрицкий сохранил нам и точную дату, 25 число, — к Брюллову пришли Жуковский с Пушкиным. Брюллов «угощал их своей портфелью и альбомами». Акварели сменялись рисунками, набросками композиций. Когда очередь дошла до презабавной акварели «Приезд на бал к австрийскому посланнику в Смирне» — особенно хорош был смирнский полицмейстер, лежащий на ковре посреди улицы и охраняемый двумя полицейскими стражами, — восторгам не было конца. Пушкин и даже обычно сдержанный Жуковский хохотали до слез. Поэту акварель так пришлась по душе, что он стал упрашивать Брюллова осчастливить его таким подарком. Но акварель была запродана княгине Салтыковой — Брюллов как раз в то время писал ее портрет. По словам Мокрицкого, Пушкин был безутешен, упал на колени со словами: «Отдай, голубчик! Ведь другого ты не нарисуешь для меня». Много лет спустя Репин воспроизведет эту сцену в рисунке, который так и назовет: «Пушкин в припадке веселости на коленях вымаливает у Брюллова рисунок». В ответ на просьбы Брюллов пообещал, что в ближайшее же время начнет портрет самого Пушкина, и даже назначил день первого сеанса. Происходило все это за два дня до дуэли…
Меж тем Брюллов вновь свалился с лихорадкою в постель. Он мучился непрестанным ознобом, глотал лекарства, назначенные пользовавшим его доктором Пеликаном, не зная о том, что на другое же утро после того, как Пушкин так смеялся над смирнским полицмейстером, он, замученный травлей великосветской черни, предпринял решительный шаг — отправил Геккерену намеренно грубое, отрезающее путь к примирению письмо. Ответом был вызов Дантеса. Известие о разыгравшейся на Черной речке трагедии застало Брюллова в постели. В 2 часа 45 минут пополудни 29 января Пушкин умер. По просьбе Брюллова в дом на Мойку побежал Мокрицкий. Вернулся он несколько часов спустя. Молча протянул Брюллову свой рисунок: две восковые свечи у изголовья, не новый сюртук, прикрытый саваном, — и лицо, неподвижное, белое. «Черты лица резки, сильны, мертвы. Он был, как должен быть мертвый Пушкин», — так написал сенатор Лебедев, потрясенный величием и покоем пушкинского лица. Мокрицкий, сбиваясь и путаясь от волнения, рассказывал обо всем, что увидел, что услыхал на Мойке. Все подъезды к дому забиты толпами людей и экипажами. Говорят, в тот день довольно было сказать извозчику: «К Пушкину», и тот вез к дому у Певческого моста. Все классы, все сословия смешались воедино. Какой-то старик долго плакал у гроба. Вяземский подошел, спросил: «Вы, верно, лично знали Пушкина?» «Я — русский», — просто ответил тот. Смерть поэта переживалась как всенародная беда, всеобщее горе. В день отпевания вся Конюшенная площадь перед церковью была заполнена толпой. Тут и там сновали квартальные. Конные жандармы оцепляли толпу. Когда настала минута выноса, шествие вдруг остановилось — кто-то бился в рыданиях на земле. Это был Вяземский.
Цензура конфисковала литографированный портрет поэта с надписью: «Потух огонь на алтаре». Краевский получил грозный выговор от попечителя Петербургского учебного округа за некролог. «Что это за черная рамка вокруг известия о кончине человека не чиновного, не занимавшего никакого положения на государственной службе?» — выговаривал тот журналисту. — «Ну, да это еще куда ни шло! но что за выражения! „Солнце поэзии“!! Помилуйте, за что такая честь? „Пушкин скончался… в середине своего великого поприща“! Какое это такое поприще? Разве Пушкин был полководец, военачальник, министр, государственный муж?» «Мера запрещения относительно того, чтобы о Пушкине ничего не писать, продолжается. Это очень волнует умы», — записывает в дневнике цензор Никитенко.
Но никаким цензурным запретам не дано остановить мысль, литературу, естественный ход развития народного разума. Меры пресечения вызвали рождение еще одного блестящего произведения бесцензурной русской литературы. Трагическая гибель великого поэта вызвала из безвестности имя другого. Сразу после похорон в течение нескольких дней во многих домах Петербурга в несколько рук переписывалось и распространялось, и снова в несколько рук переписывалось, и снова распространялось стихотворение корнета Лермонтова «Смерть поэта». Нет нужды печалиться, что напечатано оно будет лишь спустя двадцать лет в герценовском «Колоколе». Лермонтовский реквием по Пушкину мало сказать узнала — выучивала наизусть вся Россия. Анонимный корреспондент переслал стихи царю с надписью «Воззвание к революции». Император на донесении Бенкендорфа размашисто написал: «Приятные стихи, нечего сказать», — и повелел учинить у поэта обыск, произвести медицинское освидетельствование, не сумасшедший ли он. Все это для того, чтобы «поступить с ним согласно закону». Лермонтов был сослан на Кавказ — прошло всего три месяца, как был объявлен сумасшедшим Чаадаев, и к этой, столь удобной мере, прибегнуть вновь сочли неловким…