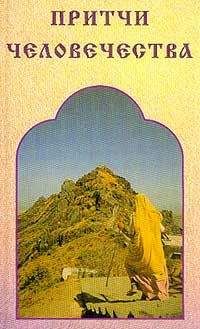Галина Леонтьева - Карл Брюллов
Эта реальность цвета уловлена взглядом художника, постигшего жизненность в самой натуре. Естественно, что глубокое постижение жизненности не могло лишь выразиться в цвете и остановиться, ограничиться этим. И тут начинается следующее звено в цепи противоречивой сущности портрета. Образ Кукольника был задуман и отчасти воплощен как образ возвышенно-романтический. Но в процессе работы художник словно бы выходит из рамок чисто романтических приемов изображения, он не может опустить, не перенести в холст ту правду, которую постиг, к которой пришел, которую открыл. Тут, конечно, сыграл свою роль и сам противоречивый характер модели, он сам нарушал задуманную художником приподнятую цельность образа. Познание приходило во время работы. Сама жизнь вносила коррективы в заранее созданную схему. В результате романтически задуманный образ оказался в конце концов претворенным с, быть может и для самого художника, неожиданной силой правды. Если мысленно сопоставить портрет Кукольника с портретом Шопена, написанным Делакруа в 1838 году, делается особенно очевидной сложная противоречивость брюлловского образа. Там тоже художник-романтик создает портрет музыканта-романтика, своего друга, своего единомышленника. Сходство этим не исчерпывается. Погруженное в зыбкую дымку лицо Шопена тоже несет отпечаток душевного страдания, нравственной боли. Там тоже светотени, как изобразительно-пластическому средству, отдана едва ли не ведущая роль. Но в образе, созданном Делакруа, отсутствует эта мучительная двойственность, ее нет — или, во всяком случае, нет в такой разительной мере — в характере портретируемого, нет и в художественной ткани портрета.
Романтичность Шопена не чужда страданию и раздумью, но не отравлена ядом скепсиса, безверия и сомнения. Портрет удивительно целен: задуманный как романтический портрет романтического артиста, он и завершен в той же приподнятой тональности, с которой автор ни разу не сбился. Брюллов же, от встречи к встрече все яснее постигая характер своего героя, при всем своем возвышенном представлении о нем, как бы помимо воли схватывает и переносит в холст на первый взгляд малозначительные приметы, в которых, однако, проявляются иные, приземленные черты поэта, звучащие диссонансом в задуманной художником тональности портрета. В самой манере держаться, в позе проскользнуло вдруг что-то от манерности, нарочитого позерства — и Брюллов тотчас поймал это. Где-то в уголках рта затаилась готовая вот-вот проявиться усмешка — не улыбка, а именно усмешка, и ее тотчас улавливает художник. Как ни малы эти мелочи, по в общей возвышенно романтической концепции портрета неминуемо образуют брешь, рушат гармоническую цельность, но и так же неминуемо ведут к большей сложности, глубине, правде живого характера. Временами кажется даже, что Кукольник лишь послушно играет роль романтического героя, что, уйдя из мастерской после сеанса, он выйдет и из роли. Тут выявляется еще один глубинный слой содержания портрета — легкая, едва приметная пота авторской иронии неожиданно вливается в трактовку образа. Художник, создавая столь возвышенный образ, словно бы вдруг бросает на свое творение трезвый, оценивающий взгляд, беспощадный и строгий. И этот нюанс тоже обусловлен самой жизнью, самим временем. Нет слов, действительно рефлексия была знамением эпохи. Белинский считал даже глубокое сомнение основной чертой сознания своего поколения. Все это так. Но для многих, особенно для молодых людей, которые, быть может, вовсе не так уж горько страдали, не так уж остро ощущали трагизм безвременья, разочарование стало весьма привлекательной и удобной позой. Послушаем, что говорится от лица автора по этому поводу в «Герое нашего времени»: «…впрочем, разочарование, как все моды, начав с высших слоев общества, спустилось к низшим, которые его донашивают… нынче те, которые больше всех и в самом деле скучают, стараются скрыть это несчастие, как порок». Ирония по отношению к расползающейся в обществе моде на роль «разочарованного романтика» звучит все чаще не только в русской, но и в европейской литературе. Герой одной из повестей Готье, юный д’Альбер, еще, по сути дела, и не живший на свете, уже заражен усталостью, разочарованием. По его собственному признанию, ему потребно не менее ста тысяч веков небытия, чтобы отдохнуть от своих двадцати лет, прожитых в полном бездействии. Романтические идеалы еще живы, но чистота их оснований уже подтачивалась. Байронизм во всей Европе постепенно, в повседневном течении жизни разменивался на мелкую, стертую монету пустопорожнего позерства, переживал девальвацию, словно бы ценности романтических идеалов уже не обеспечивались золотом веры…
Пройдет еще немного времени, и ироническое отношение будет вызывать к себе не только романтическая поза, но и туманная неопределенность романтических идеалов, совсем недавно имевшая столь притягательную силу. Панаев, в пору создания портрета Кукольника еще бывший страстным приверженцем романтизма, спустя пятнадцать лет, в статье, посвященной смерти Добролюбова, попытается выступить в роли беспристрастного судьи уходящего романтизма. Он отдаст дань уважения поколению, «серьезно начинавшему сознавать грубость и пошлость среды, его окружавшей», поколению, которое «ощущало действительную потребность лучшей, высокой жизни и стремилось к ней с юношеской горячностью, страстно, тревожно, но ощупью, — то расплываясь в романтизме, то ища точки опоры в немецкой философии, то увлекаясь социальными идеями Леру и Жорж-Занда». Но с другой стороны, продолжает Панаев, именно это поколение породило «лишних людей». Оно было исполнено благородных, но не слишком определенных «порываний» и часто впадало в «ложный, искусственный лиризм», принимая высокие фразы за дело. Уже не скрывая иронии, Панаев пишет дальше: «Если какой-нибудь малоизвестный нам господин говорил, например, при нас, сверкая глазами и ударяя себя в грудь, что он ставит выше всего на свете человеческое достоинство и готов жизнию пожертвовать за личную независимость, или что-нибудь вроде этого, — мы тотчас же бросались к нему в объятия, прижимали его, с слезой в глазу, к нашему бьющемуся сердцу и восторженно, немного нараспев, восклицали: „Вы наш! О, вы наш!“ и закрепляли союз с ним прекрасным обедом с шампанским и брудершафтом». А после могли с ним или ему подобным молодым человеком часами валяться на диване, толкуя «о Шиллере, о славе, о любви…»
Последующим поколениям и сам портрет Кукольника давал пищу для несколько иронических интерпретаций. Когда Брюллов работал над портретом, Федору Достоевскому едва минуло пятнадцать лет. Впоследствии он воскресит память и о портрете, и о самом Кукольнике в «Бесах». Для исполненного благородных, но неопределенных «порываний» Степана Трофимовича Верховенского госпожа Ставрогина подберет костюм, похожий на наряд Кукольника в известном портрете, который она еще девочкой, учась в благородном пансионе, увидала и в который влюбилась так, что и в пятьдесят лет «сохранила эту картину в числе самых интимных своих драгоценностей». И Степан Трофимович расхаживает по провинциальному городку в длиннополом сюртуке, наглухо застегнутом, с волосами до плеч, с тростью, украшенной серебряным набалдашником…
Брюллов словно бы из будущего смотрит на своего героя, провидя и то, как в дальнейшем раскроется его собственная натура, и то, какие веяния выражаются в этом характере, и то, как эти веяния будут восприняты русским обществом. Такого многосложного, такого глубоко психологического, такого реального и по содержанию, и по приемам, такого, наконец, сложно сопряженного с самой эпохой образа русская живопись до портрета Кукольника действительно не знала. Пришел день, когда автор мог поставить под работою подпись, означив тем самым, что портрет окончен. На долгое время картина останется в мастерской. Кукольник, каким тогда увидел, каким угадал его Брюллов, будет безмолвным свидетелем дружеских сходок, глядящим со стены взором печальным и скептическим на гостей, на своего создателя, на самого своего прототипа, который, по словам современников, совсем скоро утратит сходство с тем образом, что создал художник.
Первый год жизни на родине шел к концу. Брюллов за столько лет отсутствия успел позабыть, какое тягостное чувство рождала в нем петербургская осень, с коротким темным днем, балтийскими ветрами и нескончаемыми дождями, с запахами тлеющей листвы, с горьким вкусом увядания. В эту пору он делался взвинченным, надолго впадал в трясину дурного настроения. Крохи света, появлявшегося ненадолго в кратком течении дня, почти не давали работать красками. Волей-неволей досуга для дружеского общения оказывалось предостаточно.
Брюллов, как и вся Россия, как и сам Пушкин, не знал, не предчувствовал, что истекал последний год жизни Пушкина, жизни с Пушкиным, при нем, рядом с ним. С его гибелью кончится целая эпоха, без него не только станет иной литература — все, сама жизнь, сам воздух России будут иными. Если б это дано было предчувствовать… Если б это дано было предчувствовать, Брюллов бы, наверное, всякую минуту отдавал общению с Пушкиным, летел бы к нему на Мойку, звал к себе. Они видались довольно часто той осенью, но ведь и «часто» — понятие условное: если впереди многие годы жизни, это одно, а если предел, конец совсем рядом, за ближайшим поворотом пути, то и самого частого «часто» покажется потом мучительно мало… Многое было бы иначе, если б нам было дано видеть день текущий с высоты грядущего.