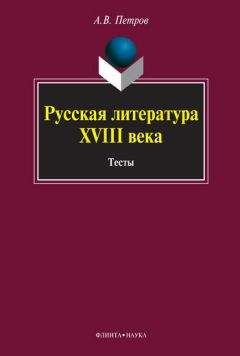Н Лейдерман - Современная русская литература - 1950-1990-е годы (Том 2, 1968-1990)
Абсурдное деяние перечеркивает действительность. На место истины, обязательной для всех, оно ставит истину, очевидную только для одного человека. Строго говоря, оно означает, что тот, кто решился действовать так, сам стал живой истиной. Человек, принявший бессмысленное решение, тем самым ставит себя на место Бога. Ибо только Богу приличествует игнорировать действительность.
Первый, тонко и иронично выписанный, план в этой повести единственный способен воплотить эту "премудрость" - принципиально иррациональную, бессмысленную истину. С другой стороны, современным Хазанову читателям был ясен политический смысл этой притчи: бессмысленное и гибельное сопротивление тотальному насилию - даже если над другими, а не над тобой! оправдано этим странным "заветом абсурдного деяния" как единственный подлинно нравственный вариант поведения в безвыходной ситуации.
2. Художественно-документальные расследования
(А. АДАМОВИЧ "КАРАТЕЛИ")
В литературе 1970-х годов возникла и глубоко оригинальная форма интеллектуальной прозы, в которой столкновение первого (конкретно-изобразительного) и второго (обобщенно-метафизического) планов обострялось благодаря тому, что первый план был строго документален. Это художественно-документальные книги-исследования, книги-расследования.
Как это ни покажется странным, беллетристика в некотором смысле более правдоподобна, чем сама жизнь, ибо, как писал Аристотель: "Задача поэта говорить не о том, что было, а о том, что могло бы быть, будучи возможным в силу вероятности или необходимости". А документалистика освобождена от проверки критерием возможности или необходимости. Она может писать том, что не укладывается во взвешенные "могло бы быть". Документалист пишет о том, что было! Было даже такое, что с точки зрения здравого смысла быть не могло, кажется немыслимым, невозможным, невероятным.
Вот именно этот потенциал документальности, ее способность воспроизводить реальность невероятного стал энергично использоваться в 1970-е годы. А. Адамович, В. Колесник и Я. Брыль в книге о людях из белорусских хатыней "Я из огненной деревни" (1977), А. Крон в повествовании о легендарном подводнике Александре Маринеско "Капитан дальнего плавания" (1983), Д. Гранин в целой серии жизнеописаний ("Эта странная жизнь", 1974; "Клавдия Вилор", 1976; "Зубр", 1986), Адамович и Гранин в совместно собранной "Блокадной книге" (кн. 1 - 1977, кн. 2 - 1981), обращаются к ситуациям, которые принято называть экстремальными, описывают судьбы исключительные, характеры в высшей степени неординарные. Но в исключительном писатель видит концентрированное выражение той глубинной тайны характера, которая вне экстремальной ситуации, может, и не проявилась бы вовсе, осталась бы законспирированной от самого героя. И как раз в немыслимых, "предельных ситуациях", которые выдумала сама жизнь, художник-документалист производит свое исследование отношений между личностью и обстоятельствами, разумом и волей одного человека, с одной стороны, и многажды более могущественными, самыми разными надличными, вне-личными силами - с другой. Как человек одолевает железный напор роковых обстоятельств? - это один вопрос, которым задаются авторы документально-художественных исследований. А другой вопрос: как совершается падение личности под напором обстоятельств, на чем держится человек, продавший и предавший все человеческие святыни, какова тайная пружина его существования?
По существу это вопросы из "ведомства" Достоевского - о "границах человека". Документально-художественная проза 1970-х вышла на эти границы, она погружалась и в глубочайшие пропасти падения личности, и поднималась к высочайшим вершинам человеческого духа. Тесная связь между ужасом подлинных фактов и воображенными повествователем фантасмагорическими коллизиями создает особое стилевое напряжение - ту эмоциональную атмосферу, в которой автор творит свое расследование.
Так, для Алеся Адамовича, написавшего повесть "Каратели" (1980) книгу о служащих зондеркоманд, участвовавших в массовых расстрелах и "ликвидациях" на белорусской земле, главное - понять: почему те, кто в упор стрелял в беззащитных женшин, стариков и детей, кто заталкивал в душегубки, кто поджигал дома, сараи, церкви, набитые людьми, и слышал крик горящей плоти, почему они могли при всем том спокойно жить, нормально есть, без кошмаров спать, быть более или менее довольными собой, а после войны влиться в обычную жизнь - заводить семьи, растить детей, воспитывать внуков? Тут без самооправдания никак не обойтись. И вот чтобы постигнуть психологическую "технологию" самооправдания палачей, Адамович строит свой дискурс как ряд внутренних монологов самих карателей. Какова же она, эта "технология"?
Прежде всего, конечно же, сетования на злую волю судьбы, на пресс безвыходных обстоятельств. "Я не виноват, виновата война". "У меня не хватило сил сопротивляться, и я стал врагом по стечению обстоятельств". Такими фразами пестрят показания бывших карателей.
Однако у карателей были (и есть!) другие, более изощренные формы самозащиты. Каждый из них старается облагородить себя в своих собственных глазах, приспосабливая к своему подлому ремеслу мерки нормальной общечеловеческой морали. Вот Тупига, тот что за шмат сала согласился сделать чужую работу - перестрелять кучу народа, укрывшегося в хате. Сколько в нем искреннего прямодушного презрения безотказного работяги ко всяким там "сачкам", какое подлинно профессиональное удовольствие получает он от чисто, экономно, без огрехов выполненной "ликвидации". А сколько сдержанного достоинства в штурмфюрере Муравьеве, русском "дублере" командира карательного батальона, который старается доказать "им" (то есть своим хозяевам), что "мы" можем быть не хуже "их" - в строю, в стрельбе, в бою особенно. Это какая-то перевернутая этика - трудолюбие палачей, достоинство убийц, творческая инициатива карателей.
А вот еще один психологический парадокс предательства. В глазах всей своры каждый каратель старается соответствовать железной антиморали "гипербореев". Им смешно, когда у кого-то из них при расстреле трясутся руки, они презирают того, кто "обрыгал все крыльцо после бойни в хате". А внутри него, "где-то в кишках", сидел свой бухгалтер и вел свою бухгалтерию: "а вот этого я не стал делать! сделал, но не так, как хотелось немцу! вот, я даже помог человеку! без меня нашим людям было бы еще хуже!" При такой бухгалтерии, естественно, находился хоть один случай, когда убийца почему-то не убивал, когда послушный палач почему-то не выполнял какую-то садистскую инструкцию. Память об этом исключительном моменте каратель хранит в своем загашнике, как индульгенцию, как аусвайс, как обратный билет к нормальным людям.
И этих аргументов карателям всех рангов, оказывается, хватило, чтобы не бередить себе душу, чтобы считать себя ничуть не хуже других. И действительно, скрыв свои злодеяния, они стали жить среди нормальных людей, ничем не отличаясь от них. Об этом свидетельствуют строки из судебных показаний и апелляций бывших карателей: "26 лет после войны я честно трудился, приносил пользу людям. . . "; "После прихода Советской Армии я воевал против немцев, 20 лет трудился, не имел замечаний, а, наоборот, 6 грамот. . . " И т. д. , и т. п.
Но Адамович опровергает изощренную логику самооправдания палачей. И делает он это прежде всего посредством документов - перечислением сожженных деревень, данными о количестве уничтоженных людей. Названия и цифры, названия и цифры - как страшный рефрен, как неумолчный гул хатынских колоколов. Документ становится в "Карателях" стилевым пластом огромной экспрессивной мощи. Она усиливается контрастом между скупыми канцелярскими фразами донесений о "ликвидациях" и апокалиптическими сценами массовых казней. Из самих документов и вокруг документов Адамович создает эмоциональную атмосферу предельного накала, не боясь жестокого гротеска, гиперболизма, фантастической условности.
Наконец, в своей документальной повести Адамович развивает высокий поэтический мотив. Когда-то Достоевский говорил о слезинке ребенка как главном критерии человечности. Фашизм подверг инфляции этот критерий. В книге Адамовича о гитлеровских карателях мерой расчеловечивания стала кровь ребенка. Самые леденящие сцены в страшной повести Адамовича - сцены убийства детей: когда Тупига убивает младенца в люльке, когда Белый стреляет в затылочек голого мальчика, когда девочка из горящего сарая кричит: "Мамочка, будем гореть, и вочки наши будут выскоквать, глазки будут лопаться - выскоквать!. . " Эти сцены воссозданы воображением художника, но у них есть строгая документальная основа - показания бывших карателей.
Нет среди "гипербореев" никого, кто бы не был повинен в смерти ребенка. А ребенок в повести Адамовича - это сын человеческий, сын Божий.
Вот он. . . Висит в люльке, сидит, откинувшись, в покачивающейся постельке и спит, как возле мамы. Голенький, пухлый такой, похожий. . . на кого только?