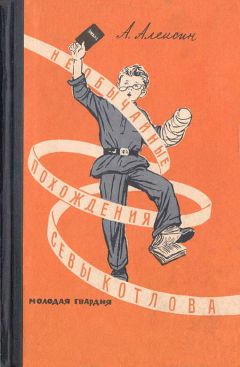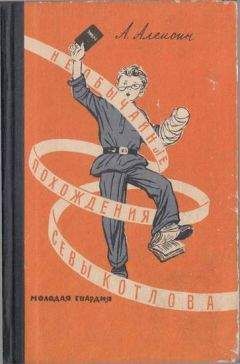Григорий Островский - Захарий Зограф
Впрочем, быт более или менее наладился если не лучшим образом, то во всяком случае сносно, тем более что Захарий был не иноком, а мирянином и монастырский устав, не столь уже и строгий, поскольку лавра — монастырь необщежительный, на Захария распространялся лишь отчасти. Архимандрит Вениамин и лаврские эпитропы оказались внимательными к его нуждам, и Захарий, смирившись со многими неудобствами, сумел как-то приспособиться к афонскому образу жизни и со временем даже находил отдохновение и приятность в способствующем душевному покою размеренном и однообразном течении дней. Да и сама лавра, укрытая от жаркого солнца в тени густых зарослей ореха, олив, кипарисов и каштанов, со множеством источников, виноградников, садов и лужаек, пришлась по сердцу.
Основанная в X веке, лавра знала времена расцвета и годы упадка, и хотя испытала немало разорений и бедствий, чинимых латинянами-крестоносцами, пиратами, сарацинами, но и поныне удерживала первенство среди афонских обителей. Здесь было великое множество особо почитаемых святынь — часть пелены Христа и орудия страстей, чудотворные иконы, келья св. Атанасия на хорах соборного храма (и сегодня здесь можно видеть следы бесчисленных коленопреклонений), его же надгробие в приделе Десяти мучеников — с железным жезлом и написанным красками на плите ликом. С лаврой были связаны несколько лет жизни патриарха Евтимия Тырновского; там же могилы святых и великомучеников Пахомия, Константина, Романа, Никодима, Дамаскина, пострадавших в XVIII столетии за веру от рук басурман. В соборе на удивление паломникам выставлено Евангелие весом в полтора пуда, напечатанное в Санкт-Петербурге повелением императрицы Елизаветы Петровны в 1758 году.
Еще во второй половине XVIII века в лавре насчитывалось более четырехсот монахов, сейчас же — вдвое меньше, но вид монастыря был внушителен и впечатляющ. Мощные стены высотой в десять и длиной в три тысячи сажен, полтора десятка оборонительных башен и в их числе центральная, над воротами со стороны земли — Цимисхова, подъемные мосты, перекинутые через глубокий ров, своя пристань под крутым утесом придавали ей облик средневекового замка.
Под стенами лавры кладбище, церковь-усыпальница апостолов Петра и Павла, немного далее древнейшая, построенная, по преданию, самим Атанасием церковь Козьмы и Дамиана, еще много скитов, келий, малых церковок; за стенами тесно застроенные монастырские дворы с корпусами келий и шестнадцатью часовнями между ними и в башнях, соборным храмом Благовещения и св. Атанасия, церковью Введения богоматери и еще одной, небольшой, возведенной и расписанной уже в середине XVII века церковью св. Михаила Синадского. Там же трапезная — крестообразное по форме одноэтажное здание десяти сажен в длину и семи в ширину, с двадцатью четырьмя мраморными столами внутри. В 1536 году зограф Феофан Критянин с сыном Симеоном расписал трапезную фресками высокого совершенства — это лучший памятник афонской живописи, по определению Н. Кондакова. Трагические и скорбные сюжеты триумфа смерти, Страшного суда, смерти в пустыне и другие, удлиненные, вытянутые фигуры бесплотных аскетов, отшельников и страстотерпцев должны были напоминать вкушавшим здесь хлеб свой насущный инокам о бренности земного бытия.
Та же кисть украсила и католикон — соборный храм лавры, но в XVIII веке большая часть стенописи Феофана с Крита была скрыта под новой декорацией, да и та уже порядком обветшала. И все же храм великолепен! Сложенный из дикого камня, под тремя куполами, он обращен к миру двенадцатью вратами и семьюдесятью окнами. От древнейшего иконостаса резного камня сохранились лишь отдельные плиты, но внутреннее убранство поражает богатством и роскошью: стены облицованы внизу голубым фаянсом, царские врата и кафедра — перламутром, помост и тридцать семь колонн — цветным мрамором. К западной стене храма примыкает возведенный в 1814 году легкий и светлый нартекс — открытая аркада на десяти мраморных колоннах и двух столбах. Громадная, прорезанная проемами трех дверей наружная стена церкви, арки, одиннадцать куполов — в центре круглый и по пять овальных по сторонам, свежеоштукатуренные и чисто выбеленные, уже подготовленные под роспись, они словно изготовились к прикосновению кисти; помощники из числа учеников афонских иконописцев тоже ожидали первомастера.
Объем работы Захария не пугал; в монастырях Троянском, Бачковском, Преображенском он был не меньшим. Не очень-то робел он и перед нынешними святогорскими зографами. Афонская школа живописи, когда-то известная большими мастерами, достойно хранившими отблеск византийского искусства, в XIX столетии порядком измельчала. Сошли на нет просветленная духовность образов, величаво-царственная монументальность композиций, изысканные гармонии цвета и рисунка; влияния европейского академизма разрушили возвышенную условность средневекового искусства, а масляная живопись вытеснила благородную фреску. Русский ученый и путешественник Н. Благовещенский был еще снисходителен, когда писал, что «новейшую живопись Афона хотя нельзя похвалить за красоту рисунка, но зато она замечательна своею замысловатостью и обилием содержания». Другой наш соотечественник, П. Успенский, был более суров: новые афонские росписи, по его мнению, «достаточно грубы и небрежны, оскорбляющие всякий изысканный вкус». Тем не менее на Афоне, и прежде всего высшее духовенство, упорно держались за стародавние каноны, и Захарию дано было понять, что разные там вольности и отступления от них, быть может, и терпимы в провинциальных болгарских обителях, но недопустимы на Афоне. Но как окрыляло одно только сознание, что по его, Захария, художеству будут судить о Болгарии, болгарской живописи, болгарских зографах!..
Вместе с архимандритом Вениамином он часами мерил шагами нартекс, обдумывая и размечая будущие сюжеты и композиции. Просвещенный кир слушал зографа внимательно, но в тонкостях ортодоксальной теологии, равно как и в восточно-христианской иконографии, был авторитетом, и спорить с ним было по меньшей мере бесполезно. Заказчик знал, что хотел, и за свои деньги — к тому же немалые — намеревался получить то, что было ему надо. В конце концов решили в среднем куполе нартекса поместить символы веры, в пяти куполах — сцены Апокалипсиса по Иоанну Богослову, в других — евангельские притчи. На стене над левыми вратами — «Второе пришествие — праведные души в раю», далее «Страшный суд», «Падение Вавилона», композиции богородичного цикла — «Хвала богородице», «О тебе радуется благодарная тварь…» и другие. Затем — вселенские соборы, искоренившие пагубные заблуждения ариан, духоборов, несторианцев, иконоборцев и всех иных еретиков, очевидно, богородица и небесный патрон лавры св. Атанасий, ангелы и архангелы, ветхозаветные пророки и евангелисты, отцы церкви и святители…
По вечерам Захарий листал ерминии, взятые в богатейшем лаврском книгохранилище чужеземной печати Библии с гравюрами Ганса Гольбейна, Дюрера, других немецких, голландских, итальянских мастеров, чертил эскизы, наброски. Конечно, Захарий кое-что позаимствовал оттуда, и при желании можно без особого труда указать на те или иные первоисточники. Но менее всего он был ремесленником-копиистом или эпигоном: «что» — это предписано священным писанием, традицией, предшественниками, заказчиками, но «как» — это принадлежало художнику, и только ему.
Захарий не хотел и уже не мог быть «как все»; он, что называется, выломался из средневековой системы творчества — во многих отношениях внеличностного, анонимного, коллективного, основанного на канонических традициях. Многое еще удерживало самоковского зографа, и прежде всего инерция этих традиций, непреложная реальность исторических и личных ситуаций, в которых он жил, учился и работал, — в границах этой системы, и чтобы сломать, разрушить ее, преодолеть силу ее притяжения, нужны были не усилия одиночки, а большие общественные потрясения. Но не менее важно было внутреннее, духовное освобождение от этих канонов, осознание неповторимости своей индивидуальности, отличающей «я» от «других», ценности своего мировидения, своего воображения, своего, незаемного таланта. В юности это понимание жило в нем скорее интуитивно, как предощущение чего-то очень важного и необходимого, теперь же оно укоренилось в сознании художника, его отношении к жизни, людям, искусству, к самому творческому акту как реализации себя в живописи. Но ведь были кир Вениамин, эпитроп Кирилл Мельхиседек и по крайней мере двести пар глаз…
В одном из куполов Захарий нарисовал небесный свод, солнце, луну, звезды, — наверное, вспомнилось при этом самоковское отрочество, когда он, пятнадцатилетний, познавал космогонию по «Рыбному букварю» Верона. А рядом — трагические видения гибели всего сущего…
«Апокалипсис» требовал от художника фантазии и воображения, и он с интересом писал огненные реки и смерчи, вавилонских блудниц на семиглавых чудовищах, крылатых скорпионов и рычащих львов, четырех всадников, несущих человечеству мор, глад и смерть, и чтоб слышны были громы небесных битв и трубный глас ангелов, оседлавших фантастических чудищ. Холодные, сумрачные тона должны были воссоздать ужасающую атмосферу неминуемого конца света, но в самой неуемной изобретательности художника ощущалась такая радостная увлеченность созиданием чего-то невиданного, что потрясенному зрителю безысходные откровения Иоанна Богослова начинали казаться народной сказкой, страшной, тревожной… и «ненастоящей».