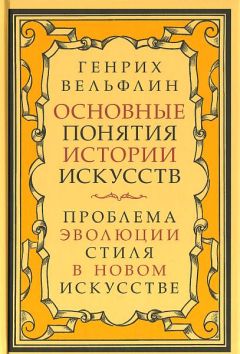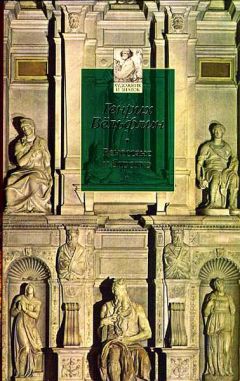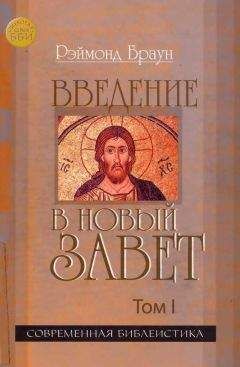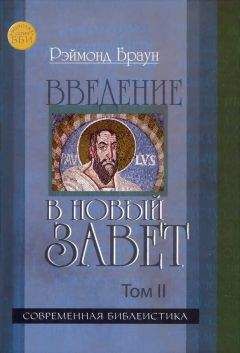Генрих Вёльфлин - Классическое искусство. Введение в итальянское возрождение
Мотив движения тела может быть настолько интересен, что о лице почти никто больше и не спрашивает. Фигуры приобретают новое достоинство в качестве моментов композиции, так что они, не представляя собой особого интереса как единичные явления, делаются значимыми в связи с целым, просто как метки сил в архитектонической конструкции, и эти формальные воздействия, остававшиеся неведомыми предыдущему поколению, сами собой приводят к лишь поверхностной характеристике. Однако такие обобщенные, подындивидуальные лица постоянно встречались также и в XV в. (в изобилии, например, у Гирландайо), и здесь не может быть усмотрена принципиальная противоположность искусства старого и нового, вследствие которой последнее и стало избегать индивидуального. Портретная манера встречается реже, однако нет и того, чтобы классическим стилем требовалось изображение идеально-обобщенной человечности. Даже Микеланджело, который занимает свое особое место также и здесь, в первых повествованиях на Сикстинском своде (к примеру, во «Всемирном потопе», рис. 31) все еще полон лиц, взятых из действительности. Затем интерес к индивидуальному у него снижается, в то время как у Рафаэля, который в первой Станца редко выходит за пределы обобщенного, он растет все в большей и большей степени. И все-таки не следует думать, что тот и другой поменялись теперь местами: то, что дает зрелый Микеланджело, есть не обобщенность подындивидуального, но обобщенность сверхиндивидуального.
Иное дело — вопрос о том, схватывается ли и воспроизводится ли индивидуальность теперь таким же образом, как это было раньше. Прежняя жажда овладеть природой вплоть до самомалейшей складочки, радость от действительности ради нее самой оказались исчерпанными. Чинквеченто пытается передать в человеческом образе величие и значительность и полагает, что достигает этого посредством упрощения, подавления несущественного. Это никакое не притупление зрения, когда оно способно не обращать внимания на определенные предметы, но напротив — высочайший взлет способности восприятия. Великое видение — это идеализация модели изнутри, и с приукрашивающим прихорашиванием, с идеализацией снаружи оно не имеет ничего общего[140].
Так что вполне можно допускать, что в эту эпоху великого искусства время от времени могло ощущаться недовольство тем, что предлагает нам сама природа. Рассуждать о таких настроениях не просто, и если бы кто захотел, дав общий отрицательный или положительный ответ на подобный вопрос, определить различие таких периодов, как кватроченто и чинквеченто, это был бы весьма рискованный поступок. Существует тысяча градаций сознательного преобразования модели, когда художник берет ее в свои руки. Известно высказывание Рафаэля, относящееся к времени, когда он работал над «Галатеей» [Вилла Фарнезина], что он совершенно ничего не в состоянии сделать с моделью, но полагается на то представление о красоте, которое возникает у него само собой[141]. Можно усматривать в этом документальное свидетельство в пользу идеализма Рафаэля. Но разве Боттичелли не подписался бы под этими словами, а его Венера на раковине [ «Рождение Венеры»] (рис. 174) — не есть, в той же самой степени, порождение чистого представления?
Идеальные тела и идеальные лица существовали и в «реалистическом» кватроченто — повсюду мы наталкиваемся здесь исключительно на различия в степенях проявления. Очевидно, однако, что в XVI в. идеальное занимает куда более значительное место. Надежды, которые питала эта эпоха, были несовместимы с духом панибратства, испытывавшимся предыдущим столетием к повседневной жизни. Замечательно, что в тот самый момент, когда искусство отыскало более возвышенную красоту само в себе, более облагороженного достоинства в отношении основных образов христианской веры потребовала также и церковь. Мадонна должна была изображаться не первой попавшейся достойной женщиной, какие десятками встречаются на улице: следовало изъять в ней все следы человечески-мещанского происхождения. Однако только теперь в наличии были и силы, способные идеальное воспринять. Величайший натуралист Микеланджело является также и величайшим идеалистом. В полной мере наделенный даром флорентийца в отношении всего индивидуально-характерного, он в то же время способен всецело отказаться от внешнего мира и творить исключительно на основе идеи. Он создал свой собственный мир, а под влиянием его примера (и в этом нет его вины) было в значительной мере поколеблено уважительное отношение к природе у последующего поколения.
В этой связи остается, наконец, сказать еще то, что в чинквеченто ощущается присутствие обострившейся потребности в созерцании прекрасного. Потребность эта изменяется, на какое-то время перед лицом иных интересов она может почти полностью отступить на задний план. Предшествующее искусство кватроченто также ведало красоту, свою собственную красоту, однако оно желало изображать ее лишь в редких случаях, поскольку куда более мощное стремление жаждало просто выразительного, характерно-живого. Примером, на который всегда возможно сослаться в этой связи, является Донателло. Тот же мастер, что замыслил бронзового «Давида» в Барджелло (рис. 2), ненасытен в отношении безобразного; у него достает мужества даже для того, чтобы не избегать отвратительных изображений и в своих святых, поскольку именно убедительная живость была для него всем, а находящаяся под впечатлением этого публика уже не задавалась вопросами относительно прекрасного и безобразного. «Мария Магдалина» во Флорентийском баптистерии [Флоренция, Соборный музей] (рис. 163 {37}) — «отощавшее до вытянутого четырехугольника страшилище» («Чичероне», 1-е изд.), а «Иоанн Креститель» (мраморная статуя в Барджелло) — высохший аскет, уж не говоря о фигурах на Кампаниле. Однако уже к концу столетия становится заметно, что прекрасное желает вырваться наружу, а в чинквеченто происходит то всеобщее преобразование типов, которое не только замещает более низменное изображение более возвышенным, но и вообще отказывается от определенных образов, поскольку они некрасивы.
163. Донателло. Св. Мария Магдалина. Флоренция. БаптистерийМагдалина — это теперь прекрасная грешница, а не кающаяся с изможденным телом, Креститель же обретает мощную мужскую красоту человека, выросшего на свежем воздухе, без следа лишений и аскезы. А молодой Иоанн изображается теперь в виде совершенной красоты мальчика, и именно в таком качестве становится одной из излюбленных фигур эпохи (рис. 168).
Фрагмент илл. 161Глава II Новая красота
Говоря, что здесь расцвел новый стиль, всегда подразумевают прежде всего преобразование тектонических объектов. Но если присмотреться повнимательнее, оказывается, что изменения коснулись не только окружения человека, больших и малых архитектурных форм, не только его утвари и его одежды: другим по телесности сделался сам человек, и суть нового стиля кроется как в новом восприятии тела, так и в новой осанке человека, способе его движения. При этом, разумеется, понятию стиля следует придать куда больше веса, чем связывают с ним ныне. В нашу эпоху люди меняют стили, словно примеряя один маскарадный костюм за другим. Однако такая утеря стилем корней наблюдается лишь начиная с текущего столетия, так что у нас, вообще говоря, нет более никакого права говорить о стилях, но лишь о модах.
164. Гирландайо. Рождение Иоанна Крестителя Флоренция. Церковь Санта Мария НовеллаНовая телесность и новое движение чинквеченто явственно обнаруживаются при сравнении такой композиции, как «Рождение Марии» Сарто от 1514 г. (рис. 106) с фресками Гирландайо и его «посещениями рожениц». Иной стала сама походка женщин. Из деревянной и семенящей она обернулась привольной поступью: замедлился ее темп, превратившись в andante maestoso[142]. Не видно больше порывистых поворотов головы или отдельных членов, есть крупное и небрежное перемещение тела, а на место всего, что прежде топорщилось и кололо глаз, пришли теперь раскованность и вздымающаяся в неспешном ритме кривая. Суховатая порода раннего Возрождения с ее жесткой формой членов более не соответствует нынешним представлениям о красоте, Сарто воспроизводит сочную полноту и роскошно-широкие затылки. И вот еще: там, где у Гирландайо мы видим короткие, негнущиеся юбки, плотно облегающие рукава, теперь ниспадают драпировки — массивнотяжело, волочась по земле. Одежде, бывшей когда-то выражением стремительного и гибкого движения, следует отныне, в своей изобильности, действовать замедляюще.