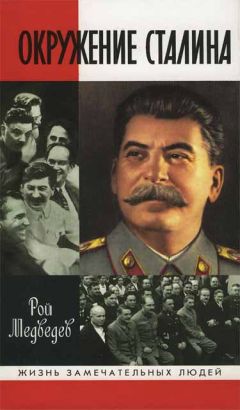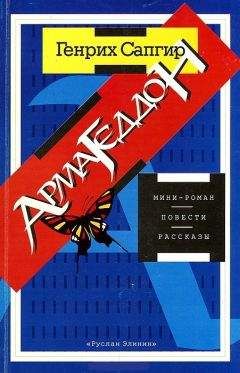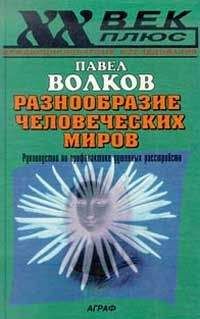Генрих Волков - Тебя, как первую любовь (Книга о Пушкине - личность, мировоззрение, окружение)
- Да потому, что между нами есть разница.
- Что ж это доказывает?
- Да то, сударь, что вы еще молокосос.
- А, понимаю, - смеясь, заметил Пушкин, - точно есть разница:
я молокосос, как вы говорите, а вы виносос, как я говорю" (В. П. Горчаков)4.
Все расхохотались, а Ланов просто ошалел от обиды. Дело чуть не дошло до дуэли. Пушкин удовлетворился тем, что отхлестал Ланова такой эпиграммой:
Бранись, ворчи, болван болванов,
Ты не дождешься, друг мой Ланов,
Пощечин от руки моей.
Твоя торжественная рожа
На бабье гузно так похожа,
Что только просит киселей.
В положении ссыльного, почти без средств к существованию, поэт болезненно остро воспринимал все, что задевало его самолюбие. Он часто взрывался из-за пустяков, бросая направо и налево вызовы на дуэли, демонстрируя полное презрение к смертельной опасности и словно нарочно испытывая судьбу.
Играя однажды в карты, он публично обвинил одного из офицеров - Зубова - в том, что тот играл "наверное", то есть нечестно. Была назначена дуэль. Пушкин явился на место поединка с горстью черешен и картинно поплевывал косточками, пока Зубов целился. "Зубов стрелял первый и не попал.
- Довольны ли вы? - спросил его Пушкин, которому пришел черед стрелять. Вместо того, чтобы требовать выстрела, Зубов бросился с объятиями. - Это лишнее, - заметил ему Пушкин и, не стреляя, удалился"2.
Подобных дуэлей у Пушкина было несколько. И даже бывалые офицеры удивлялись спокойной храбрости и самообладанию поэта. Полковник Старов после дуэли сказал ему:
- Вы так же хорошо стоите под пулями, как хорошо пишете2.
Вспыльчивый и резкий, готовый всегда наговорить обидчику действительному или мнимому - дерзостей, он был отходчив, никогда не копил в себе злобы, уже через короткое время жалел об инциденте, корил себя за невоздержанность, искал путей к примирению и был счастлив, если "все образовывалось".
Пушкин обладал способностью отдаваться всему с упоением и без остатка, от всей полноты души. Всегда - "дитя настроения", всегда - во власти "мимотекущей минуты" (П. А. Вяземский), он если попадал на дружескую пирушку, то веселился больше всех, на балах он с тем же азартом предавался танцам, что и игре за карточным столом, проигрывался без сожаления в пух и прах. Если ревновал, то мог пробежать несколько часов под палящим солнцем, влюблялся он, как сам признавался, "более или менее во всех хорошеньких женщин".
Однажды он побывал в цыганском таборе, заслушался цыганских песен, влюбился без памяти в "дикую красавицу" Земфиру да, недолго думая, и ушел с этим табором недели на две. Поэма "Цыганы" во многом автобиографична. Как и в поэме, дело кончилось трагически, только зарезал Земфиру не гордый пришелец, а молодой ревнивец-цыган.
За многочисленные бессарабские истории П. А. Вяземский очень точно прозвал своего друга "Бес Арабским" Пушкиным.
Со стороны могло показаться, что жизнь Пушкина - цепь сплошных удовольствий, пирушек, балов, волокитств. Но с той же полной самоотдачей и упоением, с какой предавался он "забавам суетного света", умел он и трудиться, никогда, впрочем, не распространяясь в свете о своих занятиях. Послушать Пушкина, так можно было вообразить, что стихи его писались сами собой, а он, "повеса вечно праздный", только тем и озабочен, чтоб предаваться "неге", "лени", "рассеянной жизни", "пирам и наслажденьям".
Но это не более как привычный набор поэтических символов, характеризующих принадлежность к обители муз - к Парнасу. Лень, праздность, нега считались, по традиции, столь же необходимыми для поэта, как для воина - дерзание, мужество, ратные подвиги. Тем самым подчеркивалось особое положение поэта в свете, его чуждость суетности мирских дел, его причастность к миру возвышенному, прекрасному, его призвание к служению Аполлону. И это надо иметь в виду, когда мы, например, читаем у Пушкина:
О вы, любезные певцы,
Сыны беспечности ленивой,
Давно вам отданы венцы
От музы праздности счастливой.
На самом деле то, что отличало этого шутника, бретера, повесу, доброго малого от таких же дворянских сынков, прожигателей жизни, которых во множестве рождала земля русская, то, что делало его Пушкиным, - это интенсивнейший, ежедневный поэтический труд, беспрестанная работа саморазвития, самосовершенствования, расширения своих познании.
Он умудрялся работать везде и всюду: в гостях, во время путешествий - в кибитке, за столиком - в трактирах, и днем и ночью. И. П. Липранди, с которым Пушкин путешествовал по Бессарабии, записал у себя в дневнике: "Я возвратился в полночь, застал Пушкина на диване с поджатыми ногами, окруженного множеством лоскутков бумаги... Опорожнив графин систовского вина, мы уснули. Пушкин проснулся ранее меня.
Открыв глаза, я увидел, что он сидел на вчерашнем месте, в том же положении, совершенно еще не одетый, и лоскутки бумаги около него. В этот момент он держал в руках перо, которым как бы бил такт, читая что-то; то понижал, то подымал голову"4.
В других мемуарах того же времени читаем: "Разговаривая и споря с приятелем, Пушкин всегда держал в руках перо или карандаш, которым набрасывал на бумагу карикатуры всякого рода с соответственными надписями внизу; или хорошенькие головки женщин и детей, большею частью друг на друга похожие. Но довольно часто вдруг в середине беседы он смолкал, оборвав на полуслове свою горячую речь и, странно повернув к плечу голову, как бы внимательно прислушиваясь к чему-то внутри себя, долго сидел в таком состоянии неподвижно. Затем с таким же выражением напряженного к чему-то внимания он снова принимал прежнюю позу у письменного стола и начинал быстро и непрерывно водить по бумаге пером, уже, очевидно, не слыша и не видя ничего ни внутри себя, ни вокруг. В таких случаях хозяин квартиры со спокойной совестью уходил в соседнюю комнату спать, ибо наверное знал, что гость уже ни единого слова не скажет до света и будет без перерыва писать до тех пор, пока перо само не вывалится из рук его, а голова не упадет в глубоком сне тут же на столе" (Е. Д. Францева)2.
Работая как одержимый, Пушкин находился в состоянии необычайного нервного напряжения. И не дай бог ему в это время помешать, он выходил из себя, впадая в бешенство. Один из молдаван наблюдал, как Пушкин с криком и сжатыми кулаками бросился на молодого парня, который пришел от генерала Инзова с приглашением на обед. После этого Пушкин просил Инзова раз навсегда не беспокоить его во время занятий. Поэтому, когда впоследствии кого-нибудь из прислуги посылали за Пушкиным, то они предварительно прокрадывались к окну, высматривали, что Пушкин делает. Если он работал, то никто из прислуги не решался переступить порог.
Именно в кишиневский период, который породил столько легенд о легкомыслии Пушкина, он, по его собственным словам, "отвыкнув от пиров", "познал и тихий труд и жажду размышлений", "чтоб в просвещении стать с веком наравне".
Именно здесь, в Молдавии, Пушкин написал "Гавриилиаду", "Братьев разбойников", "Кавказского пленника", "Бахчисарайский фонтан", задумал и начал "Евгения Онегина", создал множество лирических шедевров.
Здесь развился и окреп его гений.
Когда обстоятельства или болезнь не позволяли Пушкину работать, это угнетало его больше всего, он места себе не находил и бывал "зол на целый свет". Как часто потом, в петербургский период жизни, он рвался в деревню, чтобы "засесть стихи писать", как радовался поездкам в Михайловское, в Болдино, когда можно было, наконец, отвлечься от суеты сует и целиком отдаться работе, творчеству, поэзии. Без длительного творческого уединения он буквально задыхался.
Творчество было не только его призванием, но и первейшей жизненной потребностью, содержанием его жизни. Это понимали далеко не все из его окружения. И нужно было знать поэта так, как знал его проницательнейший Вяземский, чтобы написать о нем: "Движимый, часто волнуемый мелочами жизни, а еще более внутренними колебаниями не совсем еще установившегося равновесия внутренних сил, он мог увлекаться или уклоняться от цели... Но при нем, но в нем глубоко таилась охранительная и спасительная нравственная сила. Еще в разгаре самой заносчивой и треволненной молодости, в вихре и разливе разнородных страстей он нередко отрезвлялся и успокаивался на лоне этой спасительной силы. Эта сила была любовь к труду, потребность труда, неодолимая потребность творчески выразить, вытеснить из себя ощущения, образы, чувства, которые из груди его просились на свет божий и облекались в звуки, краски, в глаголы, очаровательные и поучительные. Труд был для него святыня, купель, в которой исцелялись язвы, обретали бодрость и свежесть немощь уныния, восстановлялись расслабленные силы. Когда чуял он налет вдохновения, когда принимался за работу, он успокаивался, мужал, перерождался. Эта живительная, плодотворная деятельность иногда притаивалась в нем, но ненадолго. Она опять пробуждалась с новою свежестью и новым могуществом. Она никогда не могла бы совершенно остыть и онеметь. Ни года, ни жизнь, с испытаниями своими, не могли бы пересилить ее".