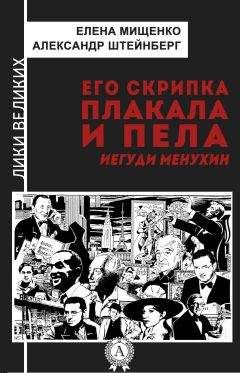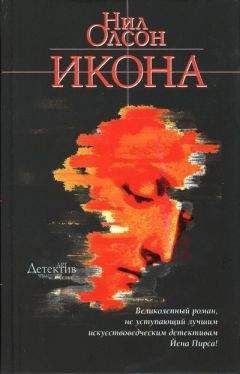Иегуди Менухин - Странствия
Быть может, я снова встретился с кем-то из них, когда уезжал с Тихого океана, — я выступал в Гонолулу в военном госпитале, куда солдат доставляли в течение нескольких часов после ранения. Из доков и аэропортов тянулись бесконечные вереницы машин “скорой помощи”, бампер к бамперу, они везли людей прямо с поля боя на операционный стол. Я играл по двадцать минут в каждой палате, и, несмотря на тяжелые ранения и окровавленные бинты, люди пребывали в лучшем расположении духа по сравнению с напряженным и мучительным состоянием моряков перед отправкой на фронт.
Гонолулу — ныне тропический остров мечты и рекламных плакатов, а тогда еще девственный райский уголок — даровал человеку все наслаждения, в которых ему отказывали суровые Алеуты. Путешествуя с острова на остров, я давал по три “представления” в день и, несмотря на напряженный ритм, за ночь полностью восстанавливался. Меня поселили в коттедже, обставленном по американским стандартам, но расположенном на берегу океана. Как бы рано мне ни приходилось вставать, я обязательно сначала плавал — и перед сном тоже, как бы поздно ни возвращался. Однажды утром я встретил японок, собиравших водоросли: их мужьям запретили ловить рыбу, что больно ударило по японскому рациону, и они довольствовались водорослями. Мне стало интересно, какие именно они собирают, я присоединился к ним, и они подарили мне на память бутылочки с водорослями, которые я отвез в Альму. Это маленькое приключение наложило свой отпечаток на тихоокеанскую интерлюдию.
Баллер везде ездил со мной, равно не похожий ни на жителя Алеутов или южных районов Тихого океана, ни на участника военных действий. Несмотря на все старания, он нелепо выглядел в армейской одежде, и в Сиэтле, откуда мы сначала летели в Анкоридж, чуть было не отказался от поездки, лишь бы не проходить бесконечные прививки. Их не любил никто, но бедный Усиу их просто ненавидел. На Адаке, наспех приспособленном под воздушную базу, единственные, кто мог похвастаться личным туалетом, были командующий и капеллан. Меня расквартировали к командующему, его туалет находился в доме, а Баллеру, которого отправили к капеллану, повезло меньше — там удобства располагались на улице, и как-то раз, словно в фильме с незадачливым Чаплином, прямо над его головой порывом арктического ветра оттуда сдуло крышу. В другой раз в Финиксе, Аризона, я предложил нанять пару лошадей, по принципу “в Риме поступай так, как поступают римляне”. Двух менее убедительных ковбоев, чем мы с Баллером, сложно было себе представить, и на конюшне мудро распорядились выделить нам самых кротких и тихих пони. Кроме того, нам дали краги — кажется, так называются кожаные защитные накладки на ноги.
— Ну, — сказал Усиу, — и куда надеваются эти штуковины? Под брючину или на нее?
Не устояв перед искушением подшутить над наивным другом, я ответил:
— А штаны к ним вообще не нужны, снимай.
Подобные случаи, тяготы постоянного пути, мужская непринужденность — все это поддерживало мое удовлетворение от того, что наконец-таки я оказался на войне и делаю какую-никакую, но свою работу. И если я не мог выкроить время для себя, то сам был виноват: играя в какой бы то ни было гражданской организации, я обязательно предлагал выступить в ближайшем военном лагере или дать другой благотворительный концерт. В итоге мое расписание предельно уплотнялось, и хватало времени только на то, чтобы добраться до места, достать из футляра скрипку и играть, не тратя времени на такие мелочи, как репетиция. Перелеты из точки А в точку Б стали привычны, хотя сидеть на металлических скамейках военных самолетов было неудобно. Разумеется, во время полета случалось понервничать: например, когда однажды наш пилот повел самолет в тумане над морем с одного алеутского острова на другой, а потом резко взмыл вверх, отчего у меня свело желудок; или когда наш самолет, чуть было не пролетев мимо песчаной посадочной полосы, сбросил скорость так резко, что уткнулся носом в землю; или когда пилот проскочил мимо нужного острова и мы очутились на вражеской территории… На нашем острове — это была Шемия — на песчаной отмели умещались только пара хижин да взлетная полоса, которую день и ночь освещали огромные нефтяные факелы. Спасаясь от японцев, мы были счастливы наконец увидеть сквозь туман эти огни, и с не меньшим восторгом я покидал эту станцию, такую одинокую и неспокойную. Единственная авария, в которую я попал, оказалась пустяковой. В Пуэрто-Рико самолет, разогнавшись, но не успев вовремя взлететь, угодил в заросли тростника, однако, к счастью, не загорелся. Однажды мне разрешили сесть за штурвал четырехмоторного бомбардировщика. В те далекие дни автопилота еще не существовало, самолетом управляли по своему усмотрению, и я, движимый самыми благими намерениями, рванул штурвал на себя и повел самолет прямо в небо, чтобы миновать горы, остававшиеся на сотни футов ниже. Такие приключения возможны только в войну, когда вокруг слишком много событий, чтобы контролировать работу на местах. Я часто обращался в американские вооруженные силы за помощью, и, сколько помню, мне никогда не отказывали.
Еще быстрее, чем женитьба, война покончила с моим прошлым и пустила мою жизнь по течению, которое приводило меня в такие ситуации, какие не предугадало бы даже самое смелое пророчество. Как-то раз мне даже пришлось пострелять. Однажды после обеда в гостях на Лонг-Айленде, летом, вся компания отправилась на пляж стрелять по мишеням, а я шел с ними и все думал, что мне там делать. Никогда раньше я не держал в руках оружие, поэтому винтовку положил на левое плечо, как положил бы скрипку. Меня поправили, я стал стрелять в первый и пока в последний раз, и тут, к изумлению моему и всех остальных, во мне вдруг заговорила черкесская кровь — я целых два раза попал в яблочко. Не исключено, что в моем лице мир лишился меткого стрелка, а все потому, что я в раннем детстве заболел музыкой, но возможно и другое — этот успех был случайностью, так что я благоразумно решил не испытывать далее судьбу. Я до сих пор храню приз в память об этом событии.
Во время войны мне пришлось принять участие еще в одной битве — с музыкальными объединениями США, которая имела гораздо более серьезные последствия и которую я в конце концов проиграл. Я вовсе не отрицаю, что трудовые объединения — вещь полезная, понятно, что если бы не они, то люди не имели бы никакой защиты. Но бывает, что человек, исправляя несправедливость, никак не может остановиться и переходит из одной крайности в другую: защитник превращается в деспота.
Я был солистом, а значит, принадлежал к той категории людей, которые, по общему мнению, способны сами отстаивать свои интересы, так что, даже если бы у меня возникло желание, мне бы никто не предложил вступить в Американскую федерацию музыкантов (АФМ), защищавшую интересы наемных рабочих. Это был единственный союз музыкантов в стране, и я мог оставаться в стороне от его деятельности, пока Яша Хейфец не основал Американскую гильдию музыкальных деятелей (АГМД) и не решил вручить мне членский билет. По какой-то причине или по чьей-то оплошности в Федерацию не принимали балетных танцоров и хористов. (Если это и правда была ошибка, то многозначительная, как оговорка по Фрейду, и очень характерная для американцев: человеку в любом виде деятельности требуется инструмент, ведь никто из нас не копает руками и не путешествует по свету пешком; так и в искусстве — у художника не может быть просто гибкое тело или крепкие голосовые связки, обязательно должен быть и инструмент.) АГМД надеялась привлечь отверженных, наряду с аккомпаниаторами и солистами, особенно молодыми, которым может понадобиться защита от собственных менеджеров. Кроме того, новой организации для солидности нужны были громкие имена.
До того я довольно часто виделся с Хейфецом, но наши отношения были на редкость непрочными в том смысле, что моего юношеского восхищения, которого долгое время недоставало, чтобы состоялось личное знакомство, теперь недоставало для тесных дружеских отношений. Понимая многие вещи, и особенно музыку, на духовном уровне, я привык сразу находить отклик в душе коллег, а потому знакомство и общение с ними давалось без труда. Хейфец стоял особняком: выразительная, но бесстрастная внешность, абсолютное совершенство игры, замкнутая манера держаться. Многие злые языки, которым технического совершенства было мало, утверждали, что он холоден. Хотя, скорее всего, за холодность они принимали жесткую самодисциплину и методичность, какой ни один скрипач в наше время не обладал. Можно было не сомневаться, что у Хейфеца все до малейших отклонений просчитано, проконтролировано и осознано. Концерт Уолтона, посвященный Хейфецу и отредактированный им, подтверждает четкую определенность его намерений: он придает особую экспрессивность неожиданным деталям, предписывает крохотные крещендо и диминуэндо на отдельных нотах. Он стремился к контролю столь совершенному, чтобы все его выступления были одинаковыми, — основательный, достойный восхищения подход, но для меня чуждый. Его окружала стена правильности и рассудительности, и перебраться через нее было не так-то легко. Однако на этот раз я восстал против его тактики, а не музыкальных принципов. Хейфец назвал мне одну из причин, почему я должен вступить в АГМД: война не будет длиться вечно, и по ее окончании в страну молочных рек и кисельных берегов хлынут европейские артисты, так что мы, американцы, должны держать оборону. Я отказался.