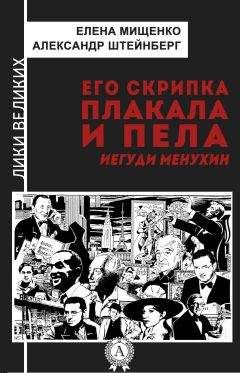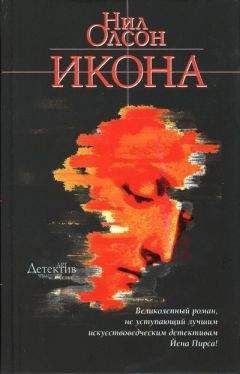Иегуди Менухин - Странствия
Когда Розали уехала, я написал моей поверенной, тете Уилле, о своей утрате. Она ответила мне, по своему обыкновению, с сочувствием, пониманием и юмором: “Немного сердечного томления — что может быть лучше для молодого человека на каникулах?” — а потом написала серьезное письмо касательно выбора жены, которое с высоты прожитых лет можно воспринимать как пророческое.
Выбирая себе жену, ты должен прежде всего искать в ней непреклонную честность. Говоря о честности, я имею в виду трезвое знание, что два и два это четыре, и никакие вздохи и мечты не сотворят из четырех пять. Она также обязана понимать, что настоящая любовь — это не столько восхищение, сколько желание помогать другому человеку и облегчать ему жизнь. А если ее избранник — мужчина, которому надлежит делать карьеру, тогда она помимо очарования должна быть наделена здравым смыслом и стойкостью… Впрочем, вряд ли ты вообще женишься на американке. По-моему, тебе нужна девушка более дисциплинированная по натуре, чем наши…
Судьба всегда была благосклонна к тебе, мой мальчик, и я подозреваю, что самым ценным ее подарком будет такая вот женщина: хрупкая, решительная, утонченная и неподкупная (такое ощущение, что я описываю Маруту, не правда ли?). Что ж, очень даже вероятно, что ты женишься на девушке, похожей на твою мать.
Мы воспользовались приглашением братьев ордена и исходили все склоны вдоль и поперек; днем, когда становилось слишком жарко, мы наслаждались великолепными видами, ночью упивались прохладным воздухом, походившим на растительный бальзам. Эти долгие ночные прогулки были необыкновенно прекрасны. Иногда наш путь освещала луна, иногда — яркие деревенские звезды, но и без всякого света я легко находил дорогу, ориентируясь по одним только запахам: сквозь заросли лавра или толокнянки, близ невидимого ручейка, вокруг которого воздух рядом с часовней Девы Марии становился клейким; дальше сухой открытый виноградник, где можно набрать винограда после сбора урожая, уже сморщенных ягод, похожих на изюм, но слаще, чем сам виноград, и все еще сочных, если умело выбирать; потом наверх по склону, к пяти огромным шелестящим эвкалиптам (внизу — складки холмов, едва различимые во мгле); а после в восторженном настроении идти домой и готовить омлеты в столь неурочный час. Я не прикасался к скрипке три месяца, затем вновь взял ее в руки, ощутив свежий прилив любви и вместе с друзьями, Натаном Файрстоуном и Джоном Патерсоном, стал устраивать вечера камерной музыки.
То было золотое время беспечности, молодости, счастья, радости, когда никто не думал о завтрашнем дне. Сольный концерт в Сан-Франциско в октябре 1937 года положил ему конец.
ГЛАВА 8
Война и мир
Нола и Линдси Николас больше, чем кто-либо, походили на саму Калифорнию: только земля юности и солнца могла так щедро одарить этих красивых брата и сестру физической силой, какой обладают люди, много времени проводящие на свежем воздухе. Родом они были из Австралии и поэтому не по-калифорнийски уважительно относились к культуре и традициям матушки-Англии. Мы познакомились за кулисами в Королевском Альберт-холле в Лондоне. Как-то вечером после концерта, в марте 1938 года, дирижер Симфонического оркестра Мельбурна сэр Бернард Хейнце представил нас друг другу. Они путешествовали по Европе, а я вновь выступал после годичного отпуска.
На первый взгляд в моей жизни мало что изменилось, за исключением нового постоянного адреса в Лос-Гатосе. Зимой, по давно заведенному порядку, я снова ездил на гастроли, а летом отправлялся в отпуск, и нынешний приезд в Европу — когда мне исполнился двадцать один год — получился семейным, так как кроме отца со мной были мать и сестры. Казалось, я пересек невидимую границу, отделяющую мальчика от мужчины: учителей на лето больше не приглашали, я достаточно повзрослел, больше не нуждался в опеке и был готов влюбиться. Так оно и случилось.
Я мог бы встретиться с Нолой и Линдси на три года раньше, в Мельбурне, где они были на моем концерте (Линдси серьезно увлекался музыкой, собрал большую коллекцию записей и читал партитуры просто так, для собственного удовольствия), но по воле случая наше знакомство произошло именно в ту яркую лондонскую весну, когда я был в подходящем возрасте, чтобы счесть его подарком судьбы и возможностью стать независимым, и в таком душевном состоянии, что у меня не было ни сил, ни желания сопротивляться. Нола — тогда ей исполнилось девятнадцать — была привлекательной шатенкой, ее энергия била через край: она плавала, играла в теннис и лихо гоняла на своем белом “ягуаре”. Линдси, не менее спортивный, чем сестра, высокий, красивый, открытый, приятный молодой человек. Их взаимная преданность еще больше располагала к ним сердца. Мы с Хефцибой не сводили с них глаз, мы восхищались ими и — были в замешательстве. Мы часто гуляли вчетвером, пока я не уехал с концертами в Голландию.
В первую же ночь по приезде туда я заперся в комнате, позвонил в Лондон, зарылся в подушках, чтобы никто не услышал, и, как только Нола подняла трубку, сделал ей предложение. Нола, которую я оторвал от ужина с братом, понятное дело, была потрясена: мы ведь едва знаем друг друга, возразила она. Да, но разве я “знал” Персингера или Энеску, прежде чем выбрать их в учителя? Знал ли я скрипку, прежде чем научился на ней играть? Ее возражение благоразумно, но не имеет смысла. Мои намерения совершенно серьезны, я горячо желаю видеть ее своей и не вижу иных путей, кроме принесения брачных обетов. Я был настолько в этом уверен, что убедил и ее. Когда мы вернулись в Лондон, я уже добился своего: Нола согласилась, мои родители тоже. Оставалось только дождаться приезда Джорджа Николаса, отца Нолы и Линдси. И хотя он был поражен таким поворотом событий, но все же не нарушил всеобщего счастья и дал свое согласие. Следом Хефциба объявила о помолвке с Линдси, а Ялта — о своей с Уильямом Стиксом, молодым человеком из Сент-Луиса, с которым мы познакомились несколько лет назад во время гастролей. Родители благословили нас, всех троих.
Другого я от них и не ожидал. Мама всегда поощряла браки между молодыми людьми и, разумеется, поддержала мою затею, которую, как и я, считала естественной целью взросления, счастливым концом сказки. Наверное, мысль о том, что Хефциба уедет в Австралию, а Ялта в Сент-Луис, огорчала ее, но, по своему обыкновению, она не обнаруживала своих чувств и ничего от нас не требовала. Вместо этого она приняла Нолу как дочь. Молодая, очаровательная, доброжелательная, всегда готовая помочь, Нола обладала множеством добродетелей и не могла не понравиться, в том числе из-за того, что в раннем детстве потеряла мать. Мне кажется, что в нашем доме она попала в пленительно теплую семейную атмосферу. В начале мая, когда закончились мои гастроли, мы все, в том числе Нола с Линдси, провели две недели с Гамбургами в Сорренто, а потом вернулись в Лондон, чтобы отпраздновать свадьбу. К этому моменту со времени нашего знакомства прошло неполных два месяца.
Мы поженились 26 мая 1938 года в Кэкстон-холле в окружении только ближайших родственников. Невозмутимый британский чиновник проводил церемонию, пока плотники в подвале строили укрытие от воздушных налетов, выстукивая молотками облигато[9]. Бракосочетание должно было состояться днем позже, но я передвинул его на сутки, чтобы не пропустить “Реквием” Верди под управлением Тосканини. Чтобы сыграть остальные свадьбы — свадьбу Ялты в Нью-Йорке в июне и свадьбу Хефцибы в Лос-Гатосе в июле, — мы отплыли на запад и в последний раз полным семейным составом провели неделю в открытом море. Однако, в отличие от сестер, я не спешил покидать родительский дом.
Только я сам был виноват в том, что не умел смелее шагнуть к независимости, словно не решаясь скинуть старую кожу и забыть предыдущие воплощения. Пребывая в таком раздвоенном состоянии, я видел, что Нола несчастлива. Ее отец тоже это понимал. Джордж Николас был замечательный человек, приверженец протестантских взглядов, он твердой рукой вел дела и преуспевал в бизнесе, верил в свои силы, как это свойственно людям, добившимся всего в жизни самостоятельно. Он приехал в Калифорнию на свадьбу Хефцибы и Линдси (мы праздновали ее под раскидистым дубом в нашем саду) и перед тем, как вернуться с ними в Австралию, отвел меня в сторону поговорить насчет настроения дочери. В тот период я совершал немало поступков, которые, будь у меня второй шанс, ни за что бы не повторил. По крайней мере, сейчас я так думаю, хотя разве можно быть уверенным, что не сделаешь дважды одну и ту же ошибку? Конечно, родители не собирались выгонять меня из дома, но тем не менее ускорили мой переезд. Через пару месяцев после выговора мистера Николаса папа подыскал нам с Нолой дом, построенный в 1935 году, где до нас еще никто не жил. Места для двоих там было достаточно, а когда появились дети, я расширил его, истратив на достройку больше, чем стоила вся Черкесская вилла (пусть даже только на бумаге), и назвал свой дом Альмой — по названию железнодорожной станции неподалеку от наших владений. Я привез сюда Нолу после запоздалого медового месяца в Йосемити и написал родителям, что переезжаю, с опасением ожидая их ответа. Как же плохо я их знал! Они восприняли такой поворот совершенно спокойно, словно для женившегося сына покинуть отчий дом — обычное дело. Тогда и началась моя независимая жизнь.