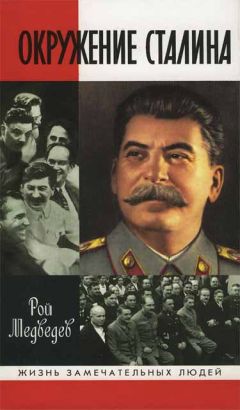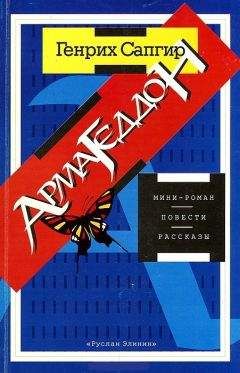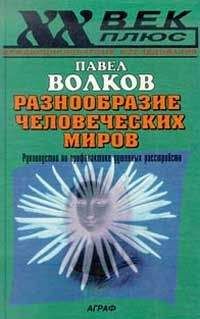Генрих Волков - Тебя, как первую любовь (Книга о Пушкине - личность, мировоззрение, окружение)
Чаадаев вопрошал слушателей, сам же себе отвечая:
" - Во Франции на что нужна мысль? - Чтобы ее высказать!
- В Англии? - Чтоб ее привести в исполнение.
- В Германии? - Чтоб ее обдумать.
- У нас? - Ни на что!"
В Россию Чаадаев вернулся как раз в то драматическое время, когда царь творил расправу над декабристами. Петра Яковлевича держали некоторое время под арестом, допрашивали, но отпустили за неимением явных улик. Царь не сослал его, но Чаадаев сделал это сам, добровольно на многие годы заточив себя в "фиваиду" - "темницу" духовного уединения и полной отрешенности от мира.
Он переживал острый духовный кризис. Он мучительно искал выхода из тупика, куда, как ему казалось, зашла Россия. Искал и не находил его.
Он впал в глубокую депрессию. Ладья его "пристала к подножию креста":
он обратил свой взор к религии.
Наконец, после пятилетнего отсутствия, Чаадаев вновь появляется в Английском клубе и гостиных и имеет теперь вид человека, которому одному открылась горькая и трагическая "истина нашего времени".
Что это за истина, читающая Россия узнала значительно позднее, в 1836 году, когда было опубликовано одно из "Философических писем"
Чаадаева. Близкие же друзья и знакомые, в их числе Пушкин, знали, конечно, "кредо" Чаадаева еще в 1829 - 1830 годах, когда он обдумывал и излагал его на бумаге.
Известно, что в марте 1829 года Пушкин приезжает в Москву, видится с Чаадаевым, и наверняка тот открывается поэту. Но Чаадаева ждало разочарование: Пушкин отнюдь не в восторге от новых идей своего старшего друга, он вовсе не принимает их как божественное откровение, на что так надеялся в гордыне своей Чаадаев. Поэт не признал его пророком и мессией и отказался следовать за ним. Это был уже не тот лицейский Пушкин, который смотрел в рот своему старшему другу, ловя каждое его слово. Да и Чаадаев был не тот.
О постигшей Чаадаева неудаче в попытке приобщить Пушкина к открытой мыслителем "тайне века" явно говорит сохранившееся письмо к поэту от марта - апреля 1829 года: "Мое самое ревностное желание, друг мой, - пишет Чаадаев Пушкину, - видеть вас посвященным в тайны века.
Нет в мире духовном зрелища более прискорбного, чем гений, не понявший своего века и своего призвания. Когда видишь, что человек, который должен господствовать над умами, склоняется перед мнением толпы, чувствуешь, что сам останавливаешься в пути. Спрашиваешь себя: почему человек, который должен указывать мне путь, мешает мне идти вперед?
Право, это случается со мной всякий раз, когда я думаю о вас, а думаю я о вас так часто, что устал от этого. Дайте же мне возможности идти вперед, прошу вас. Если у вас не хватает терпения следить за всем, что творится на све.те, углубитесь в самого себя и в своем внутреннем мире найдите свет, который безусловно кроется во всех душах, подобных вашей".
Это слова мудреца - непосвященному, пастыря - заблудшему. Слова человека, ослепленного прозрением истины, - незрячему, блуждающему в потемках. Это слова Христа - к одному из своих апостолов. Слова Бога - к падшему ангелу. Так, с таким сознанием своего превосходства мог с Пушкиным говорить во всей России только Чаадаев.
Но что же это была за истина, что за "тайна века", до которой так упрямо не хотел подняться Пушкин, продолжая упорно "склоняться перед мнением толпы"? Что за озарение посетило Чаадаева в его отшельничестве, в его "фиваиде"? Тут надо обратиться к его "Философическим письмам".
Больная, выстраданная в заграничных скитаниях и в ските духовного уединения мысль Чаадаева была, конечно, мыслью о бедственной судьбе России, о ее убожестве и отсталости. Это был "крик боли и упрека", "протест личности, которая за все вынесенное хочет высказать часть накопившегося в душе" (А. И. Герцен)16. Это было какое-то истерическое саморазоблачение, самораздевание, самоистязание национального русского чувства. То посыпание головы пеплом и раздирание одежд на себе, которому предаются от вида торжествующей смерти. Автор словно хотел, говоря словами Маркса, "заставить народ ужаснуться самого себя, чтобы вдохнуть в него отвагу".
В конце опубликованного в 1836 году - первого - письма стояло (словно это - адрес отправителя) "Necropolis", что значит "город мертвых". Автор держит суровую обвинительную речь русской истории, русскому народу, русской культуре, самому русскому человеку, его характеру.
Россия занимает огромные пространства между Востоком и Западом.
Упираясь одним локтем в Китай, другим - в Германию, она должна была соединить в себе оба великих начала духовной природы, рассуждает автор.
Но, продолжает он, ничего этого не произошло. Мы - русские - пришли в мир "подобно незаконным детям, без наследства, без связи с людьми, жившими на земле раньше нас" 40.
Русские, по мнению Чаадаева, будто бы ничего не унаследовали от мировой культуры, не развили ничего своего на ее основе. Не дали миру ни мудрецов, ни мыслителей, "...ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины; ни одна великая истина не вышла из нашей среды; мы не дали себе труда ничего выдумать сами, а из того, что выдумали другие, мы перенимали только обманчивую внешность и бесполезную роскошь"40.
Чаадаеву мнилось, что Россия и истории-то как таковой не имела, ибо ее история не была прогрессом просвещения и цивилизации. "Сначала - дикое варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и унизительное чужеземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть, - такова печальная история нашей юности... Этого периода бурной деятельности, кипучей игры духовных сил народных, у нас не было совсем. Эпоха нашей социальной жизни, соответствующая этому возрасту, была заполнена тусклым и мрачным существованием, лишенным силы и энергии, которое ничто не оживляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства".
Чаадаев увлекался все больше и больше, явно теряя чувство реальности: "Окиньте взглядом все прожитые нами века, все занимаемое нами пространство, - вы не найдете ни одного привлекательного воспоминания, ни одного почтенного памятника, который властно говорил бы вам о прошлом, который воссоздавал бы его пред вами живо и картинно. Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя"41.
Даже характер, даже взгляд русского человека представляется Чаадаеву неоформленным, неопределенным, неуверенным. И даже "в нашей крови есть нечто враждебное прогрессу..."!
Итак, нет уже у России не только прошлого, но и будущего. Тут, впрочем, Чаадаев одергивал себя, задумывался и делал робкие оговорки, вроде того, что нас, конечно, не постигнет ни китайский застой, ни греческий упадок. "...Но кто может сказать, когда мы обретем себя среди человечества и сколько бед суждено нам испытать, прежде чем исполнится наше предназначение?"40 Если отбросить крайности и экстравагантности чаадаевского письма, то основная его мысль следующая. Россия не впитала еще в себя всего того духовного богатства, которое выработало человечество, не сделала его еще своим, оставив заимствованным, внешним. А в этом богатстве европейской культуры - главное и ценнейшее достояние, по Чаадаеву, - это богатство нравственное, нравственно-религиозное, воспитанное усилиями католической церкви. Все беды России в конце концов оттого произошли, что в ней господствующей стала православная, а не католическая религия.
Это-то и явилось причиной того, что Россия развивалась не вместе со всей Европой, а вне ее.
Вот до каких "великих" истин додумался Чаадаев и вот в какую "тайну века" пытался он посвятить Пушкина!
Можно представить себе, какую реакцию вызвали у поэта "философические" откровения его давнего друга. Мог ли принять их человек, все творчество, весь гений которого брал исток свой из родника духовных сил народа, питался ими постоянно, вдохновлялся любовью к истории земли русской, к недюжинности характера русского народа, его ума и таланта?
В октябре 1836 года поэт пишет письмо Чаадаеву (но не отправляет его), где прямо высказывает свое отношение к "философическим" идеям своего друга касательно русской истории.
В самом ли деле явилась бедствием для России так называемая "схизма", то есть разделение церкви на католическую и православную? Да, отвечает Пушкин, действительно, схизма отъединила нас от остальной Европы, и Россия долго не принимала участия в ее политической и духовной жизни. Но значит ли это, что Россия не сыграла никакой выдающейся роли во всемирной истории средних веков? Значит ли это, что она ничего не дала миру? Конечно, нет!
"...У нас было свое особое предназначение, - писал поэт в письме к Чаадаеву. - Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех".