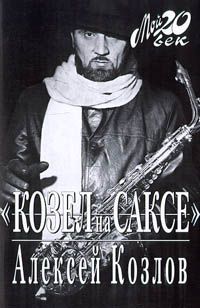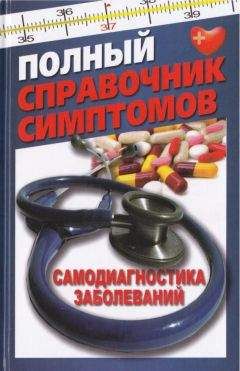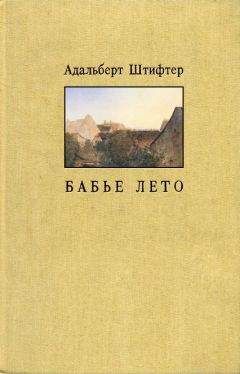Алексей Козлов - Козел на саксе
Тем не менее, 1-й Московский фестиваль прошел успешно. В зале на сто с небольшим мест размещались с трудом участники фестиваля, члены жюри и актив кафе, но это был настоящий смотр всего лучшего в московском джазе. Была даже информация в прессе, у джазменов осталось ощущение праздника, надежда на будущие перспективы, желание продолжать заниматься, играть лучше. Жюри выбрало так называемых "лауреатов" по разным номинациям. Два первых места были поделены между моим квинтетом, и ансамблем Вадима Сакуна. И здесь кому-то среди комсомольского начальства пришла в голову мысль послать от Советского Союза коллектив на международный фестиваль "Джаз-джембори" в Польшу. В недрах Горкома ВЛКСМ был сформирован сборный ансамбль, в который вошли музыканты - лауреаты фестиваля. Это были: трое солистов трубач Андрей Товмасян, гитарист Николай Громин, я на баритон-саксофоне, и ритм группа контрабасист Андрей Егоров, барабанщик Валерий Буланов и пианист Вадим Сакун. Этот сборный коллектив был назван как "Секстет Вадима Сакуна". Почему и кем, осталось неизвестным, ведь вместе мы никогда раньше в таком составе не играли. Нас начали срочно оформлять на выезд, так как до фестиваля оставалось совсем мало времени. За нас поручилась и всячески способствовала оформлению работник отдела культуры ЦК ВЛКСМ Роза Мустафина. А тогда это было крайне рискованным делом. Малейший инцидент за рубежом - и головы отвечавших безжалостно летели. В процессе оформления документов выяснилось, что контрабасист Андрей Егоров по каким-то параметрам не проходит. Стали срочно искать замену и выбор пал на Игоря Берукштиса. Пока шли все эти нудные сборы документов, характеристик, заверенных парторгами, комсоргами, дирекцией и профсоюзным руководством, нам было не до репетиций, а ведь программы то у нас не было, да никто и не верил до последнего момента, что нас выпустят. Тогда даже для спортсменов или артистов Большого театра выехать за рубеж было страшной проблемой, а то, что поедут джазмены, да еще на фестиваль, где будут представители западных стран - это казалось просто невероятным. Для того, чтобы придать этой поездке официозный характер, наш ансамбль был сделан частью Делегации ЦК ВЛКСМ, куда были включены также комсомольские работники и некоторые известные советские музыковеды и композиторы, в частности, Арно Бабаджанян и Александр Флярковский, назначенный руководителем делегации. Получение разрешения на выезд в МИДе и КГБ затянулось до того, что мы уже опаздывали на начало фестиваля. Тем не менее, чудо свершилось и мы сели в поезд Москва-Варшава с надеждой за предстоящие сутки пути сделать программу выступления, прямо в купе. Одну пьесу - блюз Телониуса Монка "Straight, no Сhaser" - сделать было нетрудно, это был всем хорошо известный стандарт, оставалось лишь распределить второй и третий голоса в теме, договориться об общей форме - кто за кем играет соло, какое вступление и кода. Но следующие три композиции пришлось осваивать с большим напряжением внимания и памяти, так как они были написаны разными участниками ансамбля и, естественно, были в новинку остальным. Это была пьеса Товмасяна "Господин Великий Новгород", "Николай-Блюз" Коли Громина и мои "Осенние размышления". Оркестровки делались и проверялись прямо на месте, во время репетиции. В купе сидели все шесть музыкантов, но играли только пятеро - Вадим Сакун, за отсутствием рояля, слушал и запоминал. Валера Буланов, за отсутствием места, играл лишь щетками по малому барабану, запоминая все "сбивки", паузы и акценты. Надо заметить, что репетировать в поезде крайне неудобно, так как вагон постоянно раскачивается, а иногда делает резкие рывки, отчего пальцы соскакивают с нужных клапанов, а мундштук неприятно бьет по зубам. Тем не менее, к моменту прибытия поезда в Варшаву мы как-то сляпали программу, надеясь на нормальную репетицию в зале, перед концертом.
Хотя и существовала такая шутка: "Курица - не птица, Польша - не заграница", на самом деле, Польша тогда была для нас почти западной страной, заметно отличавшейся от таких соцстран, как Румыния, Болгария или ГДР. С этой страной Россию связывали давние и очень сложные отношения. Будучи долгое время провинцией Российской Империи, гордая Польша, всегда тяготевшая к западной культуре, особенно к французской, выработала свое особое отношение к русским, которое нельзя назвать ненавистью. Это скорее неприязнь, похожая на вражду между близкими, кровными родственниками, осознающими и ценящими свое родство. Правда, после Второй Мировой Войны и эти отношения были значительно ухудшены. Раздел Польши между Гитлером и Сталиным, цинизм Катынского дела, пассивное предательство нашими войсками Варшавского Восстания и, наконец, насильственное присоединение Польши к Соцлагерю после войны - все это придало отношению подавляющего большинства поляков к советским русским скрытно-злобный оттенок. В то время в СССР не было еще никакой информации о перечисленных выше факторах, а мы, выходя на перрон варшавского вокзала, и не подозревали о том, с какой холодностью и неприязнью нам придется еще столкнуться. Зловещие напутствия о необходимости соблюдать бдительность, не вступать ни в какие контакты, ходить по улицам не меньше, чем по трое и т.п., полученные на спец инструктаже в ЦК ВЛКСМ, мы пропустили мимо ушей, как обычную советскую агитку. Но уже в первый же вечер с нами произошел смешной, но типичный случай, когда мы все вместе шли в гостиницу, и нам повстречался сильно подвыпивший пожилой поляк, типа простого рабочего, маленький и тщедушный. Когда он, услышав русскую речь, осознал, откуда мы, то ему сразу захотелось как-то выразить свое явное негодование. Он преградил нам путь и стал спрашивать: "Русские? Русские?" Мы остановились и сказали: "Да, да - русские!" Он, сильно качаясь, задумался на некоторое время, очевидно вспоминая русские слова, на которых лучше всего выразить свое отношение к нам. Мы немного напряглись, ожидая какой-нибудь брани. А он вдруг сказал: "Хрущев - пук-пук!". От неожиданности мы рассмеялись, так как и для нас Хрущев тоже был типичный "пук-пук". Позже, во время самого фестиваля, нам пришлось столкнуться с более рафинированными и завуалированными формами польского высокомерия по отношению к русским со стороны более аристократической части польского общества, и это, честно сказать, были не самые приятные моменты нашего первого пребывания за границей. Но стоило нам войти в обычный человеческий контакт с кем-либо из устроителей фестиваля или с польскими музыкантами, как отношение сразу же менялось. Нас уже не воспринимали как представителей Советского Союза и общались просто как с джазменами. А уж после нашего выступления мы приобрели там много хороших друзей, и надолго.
Но пока нам еще предстояло выступить на крупнейшем международном форуме джаза, завоевавшем солидный авторитет среди западных специалистов. И это при том, что мы не имели почти никакого опыта публичных выступлений в больших залах. Я лично ощущал не просто "мандраж", а какой-то ступор, находясь как бы во сне, с трудом представляя себе реальность происходящего. Думаю, что с другими участниками нашего состава творилось нечто подобное. Перед нашим вечерним выступлением нам отвели днем часа три на репетицию в пустом зале, и у нас была возможность сыграть полностью, с роялем и барабанами то, что было намечено в поезде. И вот здесь произошел один инцидент, о котором мне хотелось бы вспомнить.
Во время этой самой репетиции, когда каждая минута была на вес золота, в зале сидел и слушал нас композитор Арно Бабаджанян. После первого часа мы решили сделать небольшой перерыв. И тут он поднялся на сцену и предложил нам посмотреть и его пьесу, сочиненную только что, по случаю фестиваля, под названием типа "Привет, Варшава!". Он раздал нам ноты, написанные на небольших листочках. В то время Арно Арутюнович уже был одним из самых популярных в Советском Союзе эстрадных композиторов-песенников, маститым и влиятельным. Его песни в ритме модного тогда твиста распевали основные наши певцы во главе с Муслимом Магомаевым. Но эти шлягеры ну никак с джазовой культурой не ассоциировались, и поэтому мы были застигнуты врасплох его предложением. Дело в том, что Арно Арутюнович был замечательным, душевным человеком, мы это почувствовали с самого начала поездки, и обижать его отказом оказалось целой проблемой. Мы сразу же одинаково оценили обстановку и стали смотреть ноты в надежде, что это произведение поддастся джазовой обработке. Но, увы, это оказался инструментальный вариант типичной не джазовой песенной мелодии с очень простой гармонией. Это было написано рукой мастера, но пригодно для совсем другого применения. Для джазменов чистота стиля является чуть ли не главным условием, так что, мы честно ему об этом сказали и продолжали репетировать свои композиции. Арно Арутюнович явно напрягся, но виду не подал, и его можно было понять. С одной стороны, мы для него были тогда никем, как композиторы, в лучшем случае он считал нас всего лишь исполнителями, ну - импровизаторами. С другой - он почувствовал в этом эпизоде, что имеет дело с некоей замкнутой кастой, обладающей своими секретами, недоступными ему. Более того, эта каста не приняла его в свой круг. В следующем перерыве, когда мы спустились в зал, чтобы передохнуть и перекусить, Бабаджанян поднялся на сцену, сел за рояль, и, как бы разминаясь, вдруг начал играть какую-то необычную, изощренную и очень сложную по своей структуре музыку, политональную, полиметричную. До этого я такой музыки почти не слышал. Я открыл ее для себя гораздо позже, во времена авангардного джаза, когда пришлось поневоле изучать все - от Шенберга и Берга до Пендерецкого и Кейджа. Но в тот момент я осознал, что Бабаджанян решил показать нам свое истинное лицо композитора-авангардиста, о котором знали лишь немногие, поскольку Арно Арутюнович избрал путь песенника после известных постановлений Партии и Правительства, после травли на проявления современных веяний в советской музыке в 1947-48 годах. Показав нам свой класс, Бабаджанян покинул сцену, а мы продолжили репетицию, поняв, что проблемы больше не существует.