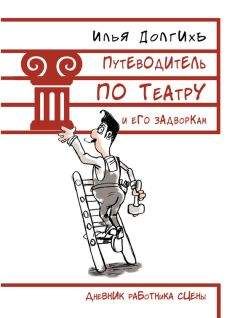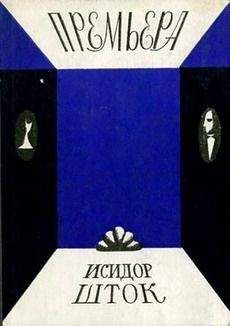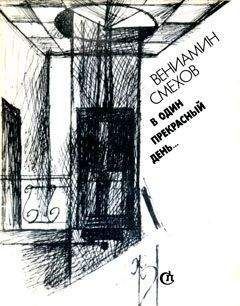Михаил Буткевич - К игровому театру. Лирический трактат
Репетицию "бури" я начал издалека, чуть ли не с самого начала, опять сначала. С разговоров и спонтанных импровизаций. Мы спустились со сцены в зал, расселись там уютной и тесной компанией. Я сидел на этот раз не за столом педагога, а в первом ряду, обернувшись к артистам и облокотившись обеими руками на спинку своего кресла. Я старался заставить их думать: о цели спектакля, о жанре, о стиле, о смысле.
Мы говорили обо всяких странных вещах: о цвете шекспировской трагедии, об ее звуко-шумовом эквиваленте; мы пытались выразить свое ощущение от "Лира" сначала в бесчисленных рисунках-траекториях, а затем и в одном обобщенном жесте; мы говорили о стилевых характеристиках пьесы, стараясь как можно меньше рассуждать и как можно больше ловить, хватать на лету и описывать возникающие перед нами туманные образы. Но больше всего говорили о жанре будущего спектакля. Что такое трагикомедия?
Что такое шутовской спектакль, шутовской театр? Какова психология шута?
Чтобы избежать излишних теоретических споров, только расхолаживающих артиста, я спровоцировал их на пробу: продиктовал им "киноленту" видений самодеятельного шута из средневековой общины — как он просыпается у себя в доме в день карнавального праздника, как одевает бережно сохраняемый шутовской костюм, как раскрашивает свое лицо, как выходит из дома и идет по улице, сопровождаемый толпой улюлюкающих мальчишек, как его приветствуют соседи, как он подходит к площади перед ратушей и что он там видит и слышит на месте общенародной масленичной игры.
Разогревшись таким образом, они легко пошли на спонтанный этюд — сымпровизировали "праздник шутов"; после тренинга на английских монологах это не составляло для них особого труда.
Затем я конкретизировал тему импровизации, предложив им разыграть выборы короля шутов и его коронацию. Такой этюд они сделали еще лучше: смелее, озорнее, веселее. Бесстрашно и упоенно окунались они в стихию народного игрища. "Английский" язык позволял им говорить все, что угодно, не задумываясь над выбором приличных слов, освобождал их ото всех комплексов и зажимов, раскрепощая их творческие потенции с небывалой до этого силой. Раскрепощенность доставляла удовольствие.
Когда они, после двух проб, почти счастливые, спускались ко мне в зал и рассаживались на свои места, кто-то из наших осторожных скептиков высказал опасение:
— То, что мы делаем, несомненно очень хорошо и играть вот так необыкновенно приятно, но каким образом это свяжется с трагедией? "Лир" ведь, как ни крутите, глубокая и возвышенная трагедия. Можно ли это делать в трагедии? Будет ли это раскрытием Шекспира?
К такому возражению я был давно готов и сразу же ввел в сражение заготовленные тяжелые калибры. Сославшись на высокий авторитет Пастернака, серьезного знатока Шекспира (он, мол, перевел почти все великие трагедии английского классика), я начал цитировать: "У Шекспира нет комедий и трагедий в чистом виде, но более или менее средний и смешанный из этих элементов жанр. Он больше отвечает истинному лицу жизни, в которой тоже перемешаны ужас и очарование... Их чередование составляет главное отличие шекспировской драматургии, душу его театра...
К этим контрастам Шекспир прибегал систематически. В форме таких то шутовских, то трагических, часто сменяющихся сцен написаны все его драмы. Но в одном случае он пользуется этим приемом с особым упорством.
У края свежей могилы Офелии зал смеется над краснобайством философствующих могильщиков... В этом именно духе и заставляет ржать и врываться пошлую стихию ограниченности в погребальную торжественность своих фискалов".
— Вам мало Пастернака? Вот вам другой грандиозный русский поэт и мыслитель. Читаю из "Книги отражений" Иннокентия Анненского: "...в полутемной палате полоумный насыпок короля в компании убийц и мазуриков, шутов, сводней и нищих лицедеев устроил себе кресло из точеных ног фрейлины, которая, пожалуй, и сама не прочь видеть его так близко от своего белого платья".
Гамлет под пером Шекспира "обратился в меланхолического субъекта, толстого, бледного и потливого, который до тридцати лет упражнялся в философии по виттенбергским пивным, а потом попробовал в Эльсиноре выпустить феодальные когти".
Это были шоковые эффекты. Я забрасывал, засыпал, заваливал их прекрасными цитатами, от которых захватывало дух, а мои ребята ржали от удовольствия, с ехидной веселостью мотали на ус и постепенно, незаметно для себя, пересматривали свой подход к Шекспиру в нужном направлении. Мы со страшной быстротой левели и правели — какая разница? — на дрожжах дерзкой мысли двух выдающихся русских поэтов, толковавших поэтику Шекспира без страха и оглядки.
Я говорил студентам и о том, что сам Шекспир неоднократно употреблял метафоры игры и сцены в своих пьесах, ссылаясь и на текст "Короля Лира": Кент, например, говорит о том, что он много раз играл для короля своей жизнью раньше на войне и теперь во дворце (в сцене раздела королевства) снова играет ею; Глостер уподобляет земные беды и мучения людей, даже человеческую смерть играм богов, для которых мы — только игрушка, забава, "муха для мальчишек"; Гонерилья сравнивает происходящее в "Лире" с комедией; Эдгар говорит, что он разыгрывает шута перед слепым отцом. Но прямее всего выражает аналогичную мысль Шекспир в словах своего протагониста: Лир называет всю человеческую жизнь шутовским спектаклем, "представлением с шутами", а весь наш мир для него — "великая сцена дураков". И дело здесь не только в словах — стоит призадуматься, почему начинается пьеса с ритуализованной игры, то есть с игры для властителя, где подданные играют в поддавки, где хозяин играет рабами, находящимися в полной его власти, и обязательно выигрывает, а заканчивается погребальным ритуалом оплакивания, превращаемым в страшную, невыносимо трагическую игру: отец играет с трупом дочери; почему все пространство пьесы между этими двумя полюсами игры плотно заполнено игровой плотью событий, поединков, интриг, любовных и военных маневров.
Кто-то опять высказал опасение, что увлечение игрой может затянуть нас в омут реконструкции старинного площадного театра, в стилизацию, в передразнивание средних веков, в жанр ради жанра; не будет ли все это старомодно и наглухо отгорожено от сегодняшних проблем. Тут я завелся окончательно, я выворачивался наизнанку, я нес бог знает что...
Прилагается документ: .. (из студенческих записей на моих "лекциях")
"Наша сегодняшняя жизнь трагикомична. Проблемы и коллизии человеческого бытия приобрели сейчас подлинную трагедийность, но мы тоже не дремали: мы быстро и надолго научились прятать этот трагизм от самих себя, то весело наряжая его в красочные лохмотья фарса, в пестрые лоскутные одежды комедии, то мастерски маскируя его шуткой, анекдотом, пустяками бытового абсурда".
"Наше общество переживает кризис: разваливается привычный мир, обнаруживается полное бессилие гуманизма, благородные истины утрачивают ценность, рушатся старые нравственные нормы, а мы ничуть не унываем. Для нас сегодня "трагический кризис личности", если взять его в полную силу, — смешон, он выглядит как глупая шутка: что переживать-то, ну, трагический кризис и трагический кризис, что ж теперь — страсти рвать? Так и инфаркт получить недолго. Нелепо, смешно говорить о трагедии, когда все прекрасно. Почитайте центральные газеты: такие перспективы, такие перспективы...".
"Мир неуклонно катится к самоуничтожению. Придумали атомное, водородное, а затем и нейтронное оружие. Живем на краю гибели... Мы получили цивилизацию, но плата за нее так велика, что возникает мысль — стоило ли ее получать. Слишком дорого обходится. А что говорит нынешняя народная мудрость? — Секрет спасения от атомной бомбы — завернуться в белую простыню и ползти на ближайшее кладбище".
"На вопрос о том, кого он считает героем нашего времени, озорной правдолюбец Шукшин ответил без колебаний: демагога. И мы не можем не согласиться с бесстрашным Василием Макаровичем, но с одной оговоркой: да, демагог — центральная фигура нашей эпохи, но это герой с отрицательным знаком, вездесущий антигерой. Подлинным же героем сегодня стал тихий и упрямый чудак, "чудик" — странный, нелепый и смешной рыцарь правды в мире двусмысленности и лжи, что как раз с предельной убедительностью подтверждается всем творчеством самого Шукшина, не говоря уже о предшествующей ему советской классике: Платонов, Шолохов, Курочкин".
"Возьмем одну из наиболее значительных фигур свежей еще советской истории — Никиту Хрущева. На нем тоже играют противоположные отблески, отсветы комедии и трагедии. Присмотритесь: юмор, шутовское хулиганство с башмаками в ООН, мужицкий грубый наив, но зато и вера, что делает как лучше. Был воспитан и выращен в одном, очень определенном мировоззрении, но не побоялся отказаться от старых взглядов и пошел до конца: разоблачил культ, реабилитировал и выпустил из лагерей миллионы невинных жертв. А кончил как шут, как никому ненужный старик, которого сделали дураком. С высот власти — в гущу простой народной жизни. Чуть ли не как Лир, но попробуйте здесь отделить комедию от трагедии... Реставрация и стилизация нам нисколько не грозят, тем более — старомодность, потому что будем играть самое главное".