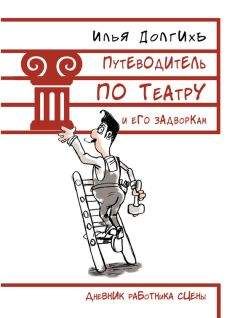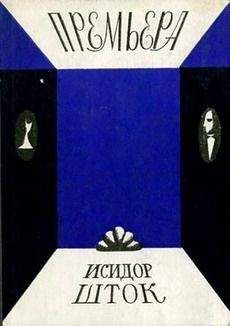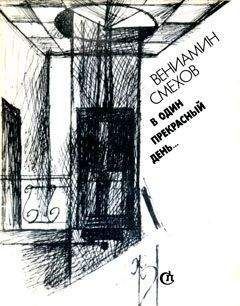Михаил Буткевич - К игровому театру. Лирический трактат
Лир взвился и закричал "ту Гонерилья", но огляделся и в ужасе заметил, что нет уже никого из принадлежавших ему слуг, что коня куда-то увели, что нету даже конюха, что он один, совсем один, и вдобавок ко всему, взломав сценическое пространство, созданное его скачкой, как из соседней комнаты, сюда подходит, услышав свое имя, его старшая дочь. Он понял: это конец, его зажали с обоих сторон.
Разного роста, разного цвета, разного тембра, дочери были жутко похожи одна на другую: как две змеи, приготовившиеся к броску, как две волчицы во мраке ночных зарослей, как две охранницы из концлагеря, который придумает сумасшедшее человечество тысячу лет спустя.
На глаза короля навернулись слезы, и он не пытался стереть их с постаревшего лица.
Пианист изобразил далекий раскат грома.
Дочери обменялись удовлетворенными взглядами и, посмотрев на небо, разошлись по своим норам.
А Лир, закричав, что не намерен больше играть "в театре глупом", начал крушить, разрушать, уничтожать рыжий шутовской балаган. Со свистом улетала куда-то вбок одна занавеска, с треском обрывалась и вышвыривалась прочь другая, поерзав туда и сюда, падала на пол и утаскивалась за кулисы третья. И когда исчез "золотой павильон" бывшего мирового царства, за ним обнаружилось сине-зеленое, почти черное пространство пустой сцены. Оно показалось огромным.
Пианист прошелся по басам, раскаты грома стали приближаться.
Надвигалась гроза.
Наступала коронная сцена Лира — сцена бури.
На первой репетиции "Лира" нам повезло с помещением — был свободен малый зал. Здесь была сравнительно немалая сцена с приличным светооборудованием, даже с регулятором. В то время здесь в течение недели или двух игрался спектакль гончаровского очного курса "Завтра была война", и сцена поэтому была в полном порядке: стены сценической коробки были затянуты по периметру темными, сине-зелеными сценическими "сукнами", планшет тоже; было очень чисто.
(Именно тут пришла, наверное, к нам идея черно-бирюзового простора, отсюда мы потом перевесили эти сукна в другой зал, где пришлось играть наш спектакль. Раскрою попутно один монтировочный секрет спектакля — пока в желтом балаганчике на первом плане игрались начальные сцены, свободные актеры, превратившись в рабочих сцены, тихенько, беззвучно, почти не дыша, переоборудовали сцену — превращали беспорядок английского овина в строгую красоту таинственной, дзенской пустоты: выносили весь лишний хлам, обивали стены сине-зелеными полотнищами, раздвигали, насколько возможно, границы сцены.)
Февральские сумерки только еще опускались на Москву, а в зале было уже почти совсем темно. Уютным теплом дышали радиаторы центрального отопления. Именно в этом зале три десятилетия назад показывал сцену бури Алексей Дмитриевич Попов.
Я попросил дать свет на краешек авансцены. Темный фон сценической одежды стал похож на пустой холст, загрунтованный кем-то под старую бронзу. На этом холсте можно было нарисовать все, что захочется. И мы начали рисовать.
Читали подготовленные дома шекспировские монологи на английском языке. Первым вышел Володя Гордеев. Он читал как-то трепетно, с удивительно тонкой нюансировкой, со скрытой какой-то невростеничностью, в диапазоне "от Ромео до Гамлета". Затем вышел Петя Маслов, подавив нас мощным напором героического недоумения и протеста. Здесь царила бурная философия страсти, поднимался и захлестывал эмоциональный хаос, но искренность высказывания была оглушающей: искренность самоистязания, искренность невыносимой боли, последняя искренность прорвавшейся наружу жалобы. Третьим поднялся на авансцену Валера Бильченко: непонятно откуда взявшееся рыцарственное благородство, рафинированная интеллектуальность, усталая ироничность, — прямо тебе Оксфорд или Кембридж.
— Все это прекрасно, действительно прекрасно, и разнообразно, и контрастно по отношению к предыдущим пробам, — сказал я, — но не будем терять перспективы, не будем забывать определяющего обстоятельства: мы ведь договорились, что наш "Лир" будет разыгрываться в театре шутов. Можете попробовать произнести этот трагический и полный поэзии монолог (а они читали один и тот же монолог) от имени шута? Нет-нет, не уходите со сцены, Валера, попробуйте повернуть свою работу на 180°, представьте, что вы — шут самого низкого пошиба, грязный, слюнявый, сопливый, заикающийся, но переполненный до отказа неистребимым народным оптимизмом и соленым народным юмором.
На фоне "Оксфорда" шутовская проба получилась очень острой, неожиданной и одновременно эффектной. Все смеялись от души и не только от обогащения содержания шекспировского монолога новыми красками, но и от творческого, от художественного удовольствия. Пробы посыпались как из рога изобилия, один шут сменял другого, монологи сверкали все новыми и новыми гранями. Артисты купались в море шутовских масок. Некоторые выходили по нескольку раз. Каких только шутов они не напридумы-вали: шут-весельчак, шут грустящий, шут-философ, шут-меланхолик, злобный шут, алкоголик, обжора, влюбленный, сплетница, скептик, мистик, ученый-схоласт, политик, оптимист, пессимист, врач (лекарь), сексуально озабоченная шутиха, шутиха-невинная девочка, шут-революционер, шут-бюрократ, больной шут, душевнобольной, шутиха-синий чулок, государственный деятель высшего ранга, шут поневоле, трагический шут, шут-террорист, шут-дипломат, смертник, скандалист, поэт, старый шут (пенсионер) и т. д. и т. п. Какие это были пробы! Какой это был фейерверк актерского мастерства: мелькали разноцветные огни, возникали разнообразные огненные фигуры, сыпались с радостным шипением искры, распускались диковинные цветы, лопались с треском неожиданные петарды.
Само по себе это было так же абсурдно и так же прекрасно, как знаменитые шедевры обереутовской поэзии, ну хотя бы как их классический образец "сорок четыре веселых чижа".
И как жалко было, что никто, кроме нас, не видел этих смелых и легких актерских набросков, и никогда не увидит; каким несправедливым и незаслуженным наказанием казался этот наглядный пример эфемерности актерского творчества: было и нету, было и кануло... Хорошо художникам: от них остаются не только знаменитые картины, но и эскизы к этим картинам, они могут выставлять свои эскизы и этюды наряду с самими картинами. Ведь часто, почти как закономерность, эти эскизы лучше картин и уж во всяком случае живее их и свежее. В' них есть легкость, в них есть игра: красок, тонов, тени и света, фактур, мастерства и творческого веселого лукавства. Вспомним зал Александра Иванова в Третьяковской галерее с его созвездием шедевров, окружающих знаменитое "Явление". Ведь в этом отношении актеры ничем, ну буквально ничем не отличаются от живописцев: их пробы, их наброски на репетициях и прогонах тоже почти всегда лучше и легче того, что люди видят во время законченного спектакля.
Поэтому я и старался, работая над "Лиром", сблизить репетицию и спектакль, увеличить в нем долю поиска, импровизации, пробы. Чтобы увеличить, насколько возможно, шанс возникновения прямо перед зрителем этих прекрасных и неповторимых актерских этюдов и эскизов.
Но то, что мы делали на первой репетиции было не только красиво и весело, это было важно и с методологической стороны: мы осваивали английский текст, приучались свободно и разнообразно владеть им, вырабатывали формулы введения его в русский текст пастернаковского перевода, формулы соотнесения и взаимоотношения русского и английского текстов. Этих формул было две:
когда шекспировский текст шел по-русски, отсебятины шли на английской абракадабре; получалась формула "чтобы не мешать гениальные слова великой трагедии со своими, самодельными";
когда звучали русские отсебятины (комментарии, апарты, вольные переводы, переключатели времени и стиля), на английском языке шел точный и неиспорченный, неприкосновенный шекспировский текст по формуле: "чтобы не создавалось впечатления, будто мы заменяем стихи Шекспира своей словесной шелухой".
Но это были мелочи внешней, так сказать, постановочной технологии. На этой же репетиции было сделано и более важное, ключевое открытие: свобода нюансировки — вот чему должен научиться актер. Любым текстом сказать любую мысль, любой ее оттенок — именно в этом освобождение актера, его полновластие.
Сцену бури хотели сыграть все.
Но тут произошел конфуз: пока по темным углам сцены с торопливым предвкушением готовили театральные причиндалы для грозы (всяческие балаганные "громы", "ветры", "ливни" и "сполохи зарниц"), пока, собравшись кучками тут и там, слева и справа, в глубине и на первом плане, с хохотом договаривались и доругивались о том, кому кого играть, пока от одной группы к другой перебегал инициатор, центр сцены захватили женщины: бывшая Корделия начала играть Лира, а бывшая Регана — шута.
Играли они мощно и отчаянно. Подмена пола только обостряла, освежала их игру. Странность этой попытки многократно усиливала впечатление. Вулканические взрывы страсти, могучие волевые посылки, бешеные басовые тремоло и хриплые завывания, заставляющие звенеть оконные стекла, — все это, столь привычное в артисте-мужчине, у актрисы обретало неожиданность и неистребимую, непобедимую новизну. И вас осеняла мгновенная догадка, вы начинали понимать актрису: она договаривала, доигрывала то, что ей нельзя было сыграть в Корделии, она расквитывалась за обиженную принцессу. В ней еще жило, бушевало, бурлило непереносимое ощущение совершенной над ней несправедливости, жил еще протест против произвола, жило в ней жуткое желание мести — это все и выливалось здесь, в монологе Лира. Долгое накопление подавляемых порывов, вынужденная сдержанность чувств, губительная концентричность переживаний требовали выплеска. Условные оковы пола словно бы упали и высвободили энергию уникальной — раз в жизни! — откровенности: женщина узурпировала мужество, чтобы выплеснуть свою ненависть в лицо этому неправому, незаконному миру.