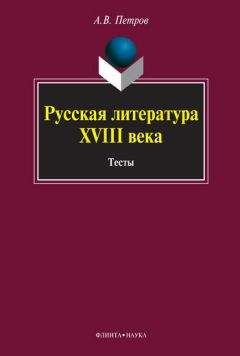Н Лейдерман - Современная русская литература - 1950-1990-е годы (Том 2, 1968-1990)
Такая же многозначность отношений между современным, то есть реальным, и пасторальным, то есть идеальным и идиллическим, планами становится конструктивным принципом всех без исключения художественных элементов повести "Пастух и пастушка".
Сниженно-бытовое и идиллически-высокое есть уже в первом портрете Люси: мазок сажи на носу и глаза, "вызревшие в форме овсяного зерна", в которых "не исчезало выражение вечной печали, какую умели увидеть и остановить на картинах древние художники". В стилистической организации повести очень существенна роль старомодного, связанного с поэтикой пасторали, слова и жеста: "Мы рождены друг для друга, как писалось в старинных романах, - не сразу отозвалась Люся"; "Старомодная у меня мать. . . И слог у нее старомодный", - говорит Борис. Или вот еще: "Подхватив Люсю в беремя, как сноп, он неловко стал носить ее по комнате. Люся чувствовала, что ему тяжело, несподручно это занятие, но раз начитался благородных романов - пусть носит женщину на руках. . . "
Герои стыдятся старомодности, а вместе с тем дорожат ею, не хотят растерять того чистого и доброго, что отложилось, спрессовалось в этих вроде бы устарелых словах, жестах, поступках.
В самом сюжете автор сталкивает нежную пасторальную тему с жестокой, точнее - с жесточайшей прозой жизни. Общее сюжетное событие в повести строится на параллели двух несовместимых линий - описывается кровавая мясорубка войны и рассказывается сентиментальная история встречи двух людей, словно рожденных друг для друга. Намеренно акцентируя оппозицию нежной пасторали и кровавой прозы войны, Астафьев расставляет по сюжету, как вешки, три очень показательные коллизии. Сначала Борис и Люся, перебивая друг друга, воображают, какой будет их встреча после войны: Борис - "Он приехал за нею, взял ее на руки, несет на станцию на глазах честного народа, три километра, все три тысячи шагов"; Люся - "Я сама примчусь на вокзал. Нарву большой букет роз. Белых. Снежных. Надену новое платье. Белое. Снежное. Будет музыка". Потом, уже расставшись, каждые из них мечтает о новой встрече: Борис - о том, что, как только их полк отведут в тыл на переформировку, он отпросится в отпуск, а Люся, выйдя из дому, видит его сидящим на скамейке под тополями, и - "так и не снявши сумку с локтя, она сползла к ногам лейтенанта и самым языческим манером припала к его обуви, исступленно целуя пыльные, разбитые в дороге сапоги". Наконец, сам безличный повествователь тоже втягивается в эту игру воображения: он рисует картину погребения умершего Бориса по всем человеческим установлениям - с домовиной, с преданием тела земле, с пирамидкой над холмиком. Но каждая из этих идиллических картин жестко обрывается: "Ничего этого не будет". . . "Ничего этого не было и быть не могло". . . "Но ничего этого также не было и быть не могло. . . " И напоследок вместо утопической картины скромного, но достойного похоронного обряда идет натуралистическое повествование о том, как товарный вагон с телом Бориса Костяева был оставлен на каком-то безвестном полустанке, как начавший разлагаться труп случайно обнаружили, "завалили на багажную тележку, увезли за полустанок и сбросили в неглубоко вырытую яму".
И все же пастораль не исчезла в этом жестоком мире. И спустя тридцать лет после войны немолодая женщина "с уже отцветающими древними глазами" нашла могильный холмик посреди России и сказала тому, кто там лежит, старинные слова: "Совсем скоро мы будем вместе. . . Там уж никто не в силах разлучить нас".
Астафьев усиливает пасторальную линию с помощью дополнительных, собственно архитектонических ходов. Уже в самих названиях основных частей повести есть определенная логика. Часть первая называется "Бой" - здесь представлена война как источник всех бед. Остальные три части образуют противовес первой. В их последовательности "материализуется" печальная цепь неминуемых утрат: часть вторая "Свидание" - часть третья "Прощание" - часть четвертая "Успение" ("успение" - по православному канону есть уход человека из бренного мира).
Кроме того, Астафьев оснащает повесть продуманной системой эпифафов. Эпиграф ко всей повести (из Теофиля Готье: "Любовь моя, в том мире давнем, / Где бездны, кущи, купола, - / Я птицей был, цветком и камнем, / И перлом - всем, чем ты была") задает пасторальную тему как эмоциональную доминанту. Эпиграф к первой части ("Бой") таков: "Есть упоение в бою. Какие красивые и устарелые слова (Из разговора, услышанного на войне)", - повествователь даже перед авторитетом Пушкина не отступил и отверг его, ставший классическим, афоризм: для человека, видящего войну как апокалипсис, никакого упоения в бою нет и быть не может. Зато все эпиграфы к остальным частям развивают ту же пасторальную тему, что задана в четверостишии из Теофиля Готье. Вторая часть ("Свидание"): "И ты пришла, заслышав ожиданье", - это из Смелякова. Часть третья ("Прощание") - строки прощальной песни из лирики вагантов: "Горькие слезы застлали мой взор. . . " Часть четвертая ("Успение") - из Петрарки "И жизни нет конца/ И мукам - краю". Таким образом, эпиграфы повести "Пастух и пастушка", кроме того, что выполняют традиционную функцию эмоциональных камертонов, еще и дидактически выпячивают авторский замысел.
По Астафьеву выходит, что война принадлежит к тому ряду стихийных бедствий, которые время от времени сотрясают планету, что война - только одна из наиболее крайних форм проявления катастрофичности жизни, само пребывание человека на земле есть всегда существование среди хаоса, что человеку, пока он жив, приходится постоянно оберегать свою душу от растления. (В этом аспекте повесть Астафьева перекликается с романом Пастернака "Доктор Живаго". ) И единственное, что может противостоять этому всесильному экзистенциальному Молоху, единственное, что может защищать душу от разрушения, - утверждает автор "Пастуха и пастушки", - это внутреннее, душевное действие, производимое маленьким человеческим сердцем. И хотя беспощадный Молох бытия обескровливает и уничтожает в конце концов человека, единственное, что может быть оправданием его существования на земле, - это сердечное начало, это любовь как универсальный принцип подлинно человеческого, то есть одухотворенного бытия. "Пастух и пастушка" - это очень горькая повесть, которая печально говорит человеку о трагизме его существования и увещевает, взывает до конца оставаться человеком.
Астафьев неоднократно говорил о том, что хочет написать большой роман об Отечественной войне, где покажет вовсе не ту войну, образ которой сложился в советской баталистике. И вот в 1992 году увидела свет первая книга этого давно обещанного Романа. Уже самим названием он полемически соотнесен с предшествующими эпическими полотнами. Раньше были эпические оппозиции: у Симонова - "Живые и мертвые", у Гроссмана - "Жизнь и судьба". У Астафьева - апокалиптическое "Прокляты и убиты". Здесь Астафьев создает свой миф об Отечественной войне, и не только о войне.
Первая книга имеет свое заглавие - "Чертова яма". Здесь еще нет ни фронта, ни бомбежек - события протекают в глубоком сибирском тылу, в лагере, где формируются воинские части перед отправкой на фронт. По конструктивным параметрам перед нами роман-хроника. Но по характеру изображения и по эстетическому пафосу - это огромных размеров "физиологический лубок". Даже тот, кто знает про гитлеровские лагеря смерти или Колыму, "ужахнется", читая у Астафьева описание той "чертовой ямы", той казарменной преисподней, в которой физически изнуряют и морально опускают, доводят до скотского состояния парнишек призыва двадцать четвертого года рождения.
На чем же держится эта скрипучая и гнилая державная казар ма? А на целом частоколе подпорок, среди которых главные - Великая Ложь и Великий Страх. Им "синхронны" в романе две самые выразительные массовые сцены.
Первая - сцена коллективного, всем полком, слушанья по радио доклада товарища Сталина 7 ноября 42-го года. С каким горьким сарказмом описывает Астафьев волнение простодушных солдатиков, которым великий вождь в очередной раз вешает лапшу на уши, их сострадание отцу родному, который мается за них за всех, их умиленный коллективный плач.
И другая массовая сцена - показательный (!) расстрел братьев Снегиревых. Повод-то ерундовый: парнишки без спросу смотались в родную деревню за провиантом и тут же вернулись. Но надо доложиться куда следует, потому что сталинский приказ No 227 уже действует, и восемнадцатилетние мальчики стали материалом для "высокоидейного воспитательного мероприятия". Это самая трагическая сцена в романе, его кульминация.
Астафьев показывает, как в атмосфере Великой Лжи расцветают самые отвратительные пороки, оформляется целое сословие паразитов и откровенных негодяев. Это всякие политбалаболки, вроде капитана Мельникова с его "казенными словами, засаленными, пустопорожними", эти "энкаведешники, смершевцы, трибунальщики", профессионалы сыска и палачества. Астафьев настолько их презирает, что ему порой отказывает чувство художника, он весь уходит в риторику - не показывает, не анализирует, а гвоздит: "вся эта шушваль, угревшаяся за фронтом", "придворная хевра", "целая армия дармоедов" и т. д. , и т. п. Но кроме этих штатных слуг режима в атмосфере лжи и страха набирает силу всякая пена, поднявшаяся со дна народного мира: это сытая челядь, что угрелась при полковой кухне, это и удалой блатарь Зеленцов, что подчиняет воровским правилам запуганных новобранцев, тут и "кадровый симулянт" Петька Мусиков, который нагло использует боязнь своих прямых начальников выносить сор из избы. Так что слова апостола Павла: "Если же друг друга угрызете и съедите, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом", - поставленные эпиграфом к роману, приобретают значение не столько предупреждения, сколько укора.