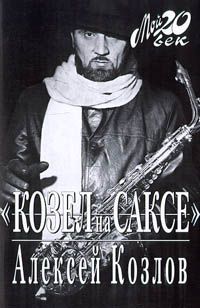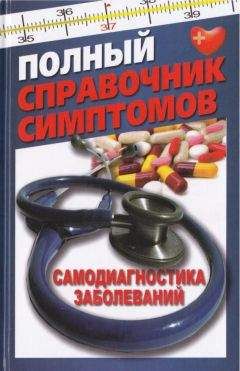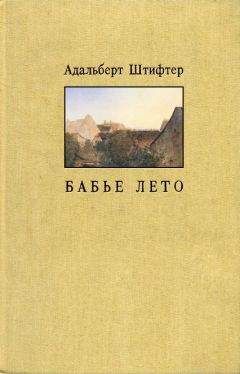Алексей Козлов - Козел на саксе
А если говорить о положительных последствиях этой поездки, то все трудности, с которыми нам пришлось там столкнуться, дали богатейший жизненный опыт, неоценимый для жителя города. Само ощущение оторванности от цивилизации, нахождение в черноземной пустыне без деревьев или кустиков на сотни километров вокруг сильно обогатило гамму доступных нам переживаний. Сперва непереносимая жара, позднее - морозы, подкрепляемые постоянно дующим в одном направлении и с одной силой ветром. Не прекращавшийся свист ветра навевал непреодолимое чувство тревоги, от которого невозможно было избавиться волевым усилием, когда ты разумом прекрасно понимал, что оснований для тревоги нет никаких. Постоянное ощущение голода, счастье от банки сгущенки, завезенной в местную лавку, отсутствие кроватей и даже матрацев, спанье на земле под общим одеялом, вынужденное безделье, сменяющееся авралом, проявление истинных человеческих качеств тех, кто был рядом. Фото 1 Фото 2 Фото 1.
Саксофон был для меня просто спасением в этих условиях. С наступлением темноты, а она в тех местах просто абсолютная, делать в мазанке без света было нечего. Тогда я уходил и начинал заниматься. Мест для занятий у меня было два. Одно, поблизости от нашего домика, представляло собой пустую брошенную цистерну, неизвестно как попавшую сюда. С большим трудом и не без помощи кого-нибудь из друзей, я забирался внутрь, садился там на ящик и начинал играть. При этом я испытывал колоссальное удовольствие от своего звука, который приобретал идеальные свойства в цистерне, благодаря отражению от массы металла. Это был небольшой самообман, но он стимулировал мой энтузиазм. Я мог, если позволяло время, сидеть и играть там часами. У меня был там и помощник, студент с нашего курса Женя Кулага. Узнав, что я беру на Целину саксофон, он взял с собой малый барабан и тарелку, чтобы аккомпанировать мне. Он не был барабанщиком, и даже не играл в самодеятельном институтском ансамбле, но страстно любил музыку и хотел научиться играть. Когда я заканчивал играть свои упражнения, сидя в цистерне, он залезал ко мне со своим барабаном и тарелкой. После этого мы начинали играть джаз вдвоем. Он держал ритм, играя по тарелке, а отдельные сбивки исполнял на малом барабане. Получался небольшой концерт для всех желающих, которые располагались снаружи, вокруг цистерны и слушали. Так как других развлечений, не считая карт, шахмат или разсказывания анекдотов, там не было, то большинство "целинников" собирались и слушали нашу игру в независимости от степени любви к джазу.
Затем я нашел еще одно место для занятий. Это было громадное помещение недостроенного зернохранилища с высокими бетонными стенами, но без перекрытий. Оно находилось на приличном расстоянии от нашего домика. Это меня и устраивало, так как иногда необходимо было играть то, что не предназначено для постороннего уха, то есть скучные пассажи, которые, вдобавок, еще и не выигрываются, не получаются. В светлое время суток или при полной луне я удалялся к этому зернохранилищу и играл там, уединившись, стоя между бетонных стен, которые тоже здорово резонировали, значительно улучшая мой звук. На Целине я настолько привык к этому своему искусственно улучшенному звучанию, что был неприятно удивлен, обнаружив уже в Москве, что далек от идеала, что на самом деле звук мой так и остался "ватным", что фирменной жесткости в нем особенно не прибавилось. Как выяснилось гораздо позднее, на саксофонах фирмы "Weltklang" получить настоящий звук практически невозможно, поскольку они сделаны из очень плохого металла. Не даром саксофоны этой фирмы получили среди профессионалов прозвище "тазики". Поэтому, поиграв на своем "тазике" года два, я сдал его обратно в профком, вернее, передал одному из участников самодеятельного оркестра, а сам вернулся обратно на альт-саксофон, купив себе на "бирже" довоенную развалину, но профессиональной модели.
Нас задержали на Целине до глубокой осени. В Москве шли дожди, а там уже наступила настоящая зима, выпал снег, ночами были сильные морозы. Поскольку никто из нас не взял с собой теплой одежды, думая, что нас вернут обратно к началу учебного года, возникли проблемы. На месте нам выдали ватники и резиновые сапоги, но этого было недостаточно. Тогда наш институт прислал большое количество старых байковых одеял, которые предназначались для укрывания по ночам. Но мы использовали их иначе. Девочки, умевшие обращаться с ножницами и иголкой с ниткой, скроили нам из одеял нечто, напоминавшее мексиканские пончо, накидки с дыркой для головы. Кроме того, мы смастерили себе теплые головные уборы из обрезков одеял, очень смахивавшие на шапочки для заключенных. В таком виде мы и ходили по бескрайней заснеженной пустыне, иногда не зная, чем себя занять. Одному из студентов бабушка умудрилась прислать из Москвы посылкой ватное одеяло невообразимых размеров. Под ним умещалось несколько человек, в том числе и я. Спали одетыми во все, что было. Утром вылезать из-под одеяла было мужественным поступком. Снаружи стояла бочка с водой, которая за ночь покрывалась коркой льда, так что первый, кто вставал, пробивал маленькую прорубь, чтобы умыться и почистить зубы. Если работы в этот день не было, то некоторые из нас так и не вставали подолгу, продолжая лежать в оборудованной берлоге, не приводя себя в порядок. Этот короткий жесткий опыт пребывания в трудных условиях дал мне очень много. Я на себе прочувствовал, каково было тем, кто воевал, кто мотал срок в ГУЛАГе. Позднее, в 60-е годы, когда я работал во ВНИИ Технической эстетики, мне пришлось общаться с представителями советской интеллигенции, отсидевшими в сталинских лагерях. Некоторые из них старались никогда не вспоминать о том, что им пришлось пережить. Но были такие, кто постоянно, при любом случае переходил к воспоминаниям о ГУЛАГе. Я помню человека по фамилии Тойтельбаум, который был до войны одним из руководителей крупнейших строек металлургической промышленности, типа Магнитки, и попал под репрессии как враг народа, просидев шестнадцать лет. То, что он рассказывал мне о происходившем в этом аду, не укладывается в сознании человека, никогда не переносившего хоть что-либо подобное. Одна из простых истин, которую я узнал из таких рассказов, сводилась к тому, что в условиях бараков, холода и голода, не говоря об издевательствах и пытках, там, где люди умирали как мухи, выживали те, кто не прекращал чистить зубы каждое утро, несмотря на кажущуюся бессмысленность такого занятия. И еще выживали те, кто работал в похоронных командах. Вспоминая свой короткий опыт жизни на Целине, я смог, как мне кажется, оценить ту пропасть, которая разделяет жизненный опыт обычных людей, живущих на свободе, и тех, кто побывал в зоне, особенно - в сталинские времена. На блатном языке эту разницу очень просто выразить двумя противоположными понятиями - "зэки" и "фраера". Зэк по сравнению с фраером - это человек, обладающий дополнительным жизненным опытом, особой приспособляемостью, позволяющей выживать и существовать в сложных условиях. По сравнению с ним фраер - это изнеженное и не всегда приспособленное к жизни существо, вызывающее, в лучшем случае, сожаление. Странно, но люди, долгое время прожившие в зоне, попадая на волю, в мир фраеров, не могут вписаться в их ритм и правила жизни и интуитивно стремятся обратно. Таков парадоксальный опыт. Я не зря коснулся этой темы, поскольку события после перестроечных лет навели меня на некоторые сопоставления. Когда в конце 80-х у меня, как и у всех советских людей появилась возможность беспрепятственного выезда за границу и более трезвого сравнения жизни нашего общества и западного, мне пришло в голову, что мы, советские люди, прожившие всю жизнь в условиях дефицита еды и товаров, отсутствия информации, свободы слова и передвижения, свободы вероисповедания и многого другого, и жившие, как нам казалось, неплохо, то есть прожившие жизнь не зря, - мы уподобились зэкам. Для нас население стран с западной демократией, с экономической и политической свободой и прочими радостями - это настоящие фраера. Я понял, насколько легче во многих отношениях жилось всегда гражданам тех же Соединенных Штатов Америки по сравнению с советскими людьми. Бывая в Америке и приглядываясь к людям, которых встречал там, к нормальным, честным и трудолюбивым гражданам, доброжелательным, верующим и слегка ограниченным в смысле круга интересов, я мысленно спрашивал себя, а смогли бы они достичь своего благополучия, живя в наших условиях где-нибудь в 60-е или 70-е годы ( не говоря про конец 30-х ), где ничего нельзя, где лучше ничего не делать и ничего не иметь? Бывая на Западе, я нередко ощущал себя типичным зэком по сравнению с местными фраерами. И еще я почувствовал, что мне из родной "зоны" никуда не хочется, здесь мне все известно и привычно. Аналогично, я прекрасно понимаю всех этик стариков и старух, выходящих с плакатами Ленина и Сталина на демонстрации, требуя возврата старого режима. Эти люди слишком долго прожили в зоне. Новый строй, другие, фраерские законы им не нужны. В новом мире надо отвечать за себя самому, надо зарабатывать на хлеб своим трудом, а не надеяться на гарантированную пайку. И еще не надо забывать, что в зоне есть не только зэки. Там приспособилась жить громадная армия тех, кто этих зэков охраняет, кто властвует над ними, в чьих руках находятся их судьбы. Это ВОХРа во всех ее проявлениях, категория людей, развращенная сталинскими правилами столкновения уголовников с политическими, беспредельной властью. С крушением режима эта армия работников ГУЛАГа потеряли былую власть, которая не сравнима ни с каким материальным благополучием, да его у них и не было, они и сами жили не намного лучше зэков. Но зато при шаге влево или шаге вправо могли безнаказанно стрелять. Сюда же я отношу еще одну армию граждан, прилепившихся к мелкой партийно-бюрократической власти, дававшей какие-то привилегии в виде пайков, загранпоездок, разных талонов и купонов и такой же мелкой власти над другими. В отличие от узкой верхушки, сохранившей и начальственный статус и материальные блага, эти потеряли все. Поэтому, вместе со своими зэками они тоже хотели бы вновь оказаться в зоне, то есть в нашем социалистическом прошлом. Если масса желающих этого окажется достаточной, чтобы, играя по новым демократическим правилам, обнаружить свои преобладающие предпочтения, то я не исключаю, что Россия вернется к привычной прежней формации, но на этот раз уже не надолго, в форме фарса.