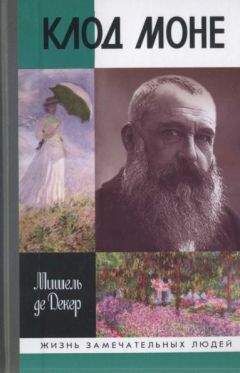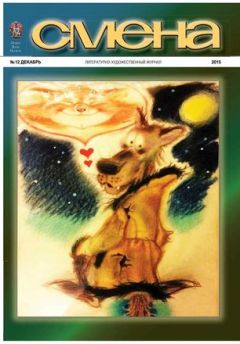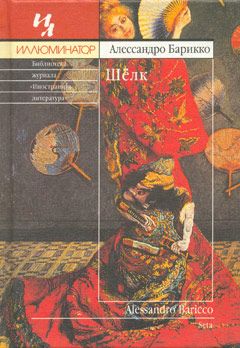Ольга Петрочук - Сандро Боттичелли
«И случилось с Лоренцо как с фараоном, которому собственная дочь воспитала Моисея, — резюмирует Макиавелли. — Он призрел того, кто потом ниспроверг его». Подобно мудрому цинику демону Астароте в «Морганте» Пульчи, Медичи верил в относительную доброкачественность всех существующих на земле религий, как подобает истинному теисту в философии. Чуждый нетерпимости догматизма, в широте своих взглядов доходивший порою до полной беспринципности, Великолепный тем не менее не мог не ценить в Савонароле наличие стойких качеств той убежденности, которыми сам он не обладал. Ибо Лоренцо Медичи уважал всякую незаурядность.
Поэтому он был искренне огорчен враждебными выпадами упрямого феррарца: «Вы видите: чужеземец пришел в мой дом и не удостаивает меня даже своим посещением». По-прежнему тонко дипломатичный, пытается Медичи осторожно нащупать пути контакта, могущего усмирить Савонаролу. Оттого-то со дня избрания нового настоятеля правитель Флоренции зачастил в савонароловский монастырь, где, благосклонно и благонравно выслушав мессу, как бы невзначай, с привычным кокетством уподобляясь обычному прихожанину, у всех на виду прогуливался по монастырскому саду. Но Савонарола, наблюдая все эти маневры, только презрительно фыркал: «Если он меня не ищет, оставьте его ходить в свое удовольствие» — и в свою очередь демонстративно не замечал Великолепного.
Тогда Лоренцо, еще не теряя надежды приручить этого дикаря, принимается посылать в возглавляемый им Сан Марко богатые вклады. На этот новый лукаво-обходной маневр доминиканец отрезал, что добрая собака не перестает лаять, охраняя хозяйское добро, какую бы жирную кость ей ни бросали чужие. Лоренцо, однако, «яко премудрый змий», не переставал тревожить его слишком чуткую совесть, подвергая ее множеству лукавых искушений. И терпение проповедника лопнуло, когда в один прекрасный день он обнаружил в монастырской кружке для милостыни несколько золотых монет. Тотчас велит немедленно отослать их «Добрым мужам св. Мартина» для раздачи нищим. На нужды обители, заявил он, вполне достаточно меди и серебра. Все тонкое искусство обольщения, которым в совершенстве владел Лоренцо, не оказывало ни малейшего действия на человека, сознательно отринувшего от себя все мирские соблазны.
В капризной Флоренции прежде никто не мог проповедовать более двух Великих постов подряд, не надоев безнадежно слушателям. Но Савонарола проповедовал уже несколько лет со все возрастающим успехом. Церковь Сан Марко уже не вмещала всех поклонников его откровений. Народ слушал его, как оракула, и начинал в него верить, как в бога. Мужчины, женщины, дети зачарованно ходили за ним по пятам, бедняки при виде пророка самозабвенно повергались на землю, робко тянулись, порываясь поцеловать его руку или хотя бы край обтрепанной бедной сутаны, пропыленной и грубой, как истое рубище, как власяница. Он начал и вправду творить чудеса. Не чудо ли, что иные отпетые ростовщики, купцы и банкиры, убоявшись обещанного монахом неукоснительного божьего гнева, небывало расщедрившись, возвращали неправедно приобретенные суммы в размере даже до нескольких тысяч флоринов?
Истинным чудом выглядело и обращение одного из сонма разгульных флорентинских художников, некоего искусного миниатюриста, принявшего монашество под именем фра Бенедетто. Преданнейший неофит Савонаролы впоследствии описал это в своей автобиографии, красочно очертив и свою грешную жизнь в миру, и трагический искус своего монашества, сделавший его «Бенедетто-человекоубийцей». Духовный сан не угасил в нем ни пылкого темперамента, ни непосредственности чувств. Горько каясь в мистическом диалоге с богом, он нет-нет, да и вспыхивает фейерверком «светских» воспоминаний: «Столько мускусу и духов употреблял я тогда, одевался с такою роскошью, красотою и модой, что умом без крыльев летал».
Нечто подобное мог рассказать о себе и Сандро Боттичелли, неограниченной гордыне которого поучительная история покаяния фра Бенедетто могла послужить предостережением на будущее. Ныне новообращенный брат украшает миниатюрами кодекс с пророчествами Савонаролы, где среди остальных иллюстраций не последнее место занимает видение в небесах гигантской карающей руки, простирающей наказующий меч на многогрешную Флоренцию.
Бремя страстей и греховПятого апреля 1492 г. молния ударила в фонарь купола церкви Санта Репарата (той самой, где был умерщвлен Джулиано) с такой силой, что значительная часть купола рухнула, «вызвав всеобщее изумление и ужас». Ибо такое явление считалось явным предвестием беды. Разумеется, фра Джироламо не замедлил откликнуться на происшествие с быстротой и убийственной силой молнии очередным напоминанием о близости и справедливости божьего гнева.
Великолепный удалился в Кареджи в сопровождении только ближайших друзей — старшего сына Пьеро, Пико и Полициано. Взаимообусловленное сцепление обстоятельств и страстей без пощады подводило некоронованного владыку к последнему рубежу, а по пятам за ним летели клеймящие слова Савонаролы: «Тиран есть имя человека дурной жизни, самого негодного из всех, узурпатора прав других, человека, который губит и свою душу, и душу народа». В самом деле, на сорок шестом году жизни Лоренцо дотла испепелил свою душу и тело в рискованной политической игре собственной жизнью и жизнями многих других, в постоянном потворстве всем своим прихотям и сладострастию такого рода, которое неизбежно приводит до времени на край могилы.
Тяжкий недуг казался воистину наказанием, ниспосланным свыше, наказанием сокрушающим, последним, тысячу раз обещанным неумолимым, как само возмездие, феррарским пророком. Лоренцо был очень болен, однако физические страдания его были ничто в сравнении со все возрастающим смятением духа. Их накопилось несметное множество, незамолимых его грехов, но два воспоминания особенно терзали сердце.
Первым из этих деяний Лоренцо некогда даже гордился. В 1472 г. Медичи вступил в компанию по эксплуатации богатых квасцовых рудников в Кастельнуово в окрестностях городка Вольтерры. Квасцы были необходимым сырьем — закрепителем при изготовлении сукон, традиционного флорентийского товара, производственной основы всей экономики города. Но Лоренцо мало было участия в эксплуатации столь полезных залежей, он пожелал нераздельной на них монополии — так как помимо чисто хозяйственной выгоды для Флоренции — монополии цен и так далее — Великолепному по обыкновению не хватало денег на осуществление его грандиозных планов, а в единоличном владении рудники обещали наибольший доход.
Но принадлежали они по праву Вольтерре, и Вольтерра воспротивилась их захвату.
Восставшие горожане Вольтерры продержались недолго и в июне сдались на милость комиссаров Флорентийской республики. Несмотря на договор о сдаче от 16 июня 1472 г., 18 июня флорентийское войско по прямому подстрекательству Великолепного подвергло кровавому возмездию беззащитный город, учинив разгром, при котором разнузданно убивали и грабили наемники обеих сторон, «не щадя ни женщин, ни святых мест», устроив воистину кровавую баню, в которой уже не было иной необходимости, кроме личной прихоти Медичи. Реки крови на улицах Вольтерры, так же как еще раньше того, в 1470 году потопленное в крови возмущение в Прато, в те дни не пугали Лоренцо, напротив — во Флоренции это событие отмечалось как «величайшая радость». Впрочем, дотла разоренный городок с перебитыми жителями был официально включен в состав Тосканского государства, и, само собой, его правитель неплохо погрел себе руки на этом. Один только старый ворчун Содерини был недоволен столь блистательным итогом и повторял, что, раз Вольтерра взята — «теперь-то она и потеряна», ибо отныне ее можно будет удерживать только вооруженной силой. Однако никто в те дни не воспринимал всерьез этих слов, включая самого Лоренцо, слывшего воплощением осторожности.
И только теперь — двадцать лет спустя — он мог ощутить жестокую для него правоту благоразумного советчика Содерини. А тогда его карнавальные «триумфы» заставляли флорентинский народ позабыть и Вольтерру, и постоянную угрозу надвигавшегося экономического кризиса. В затянувшемся двадцатилетием карнавале властитель постепенно проматывал и себя и окольными путями добываемые средства. Промотавшись, он вынужден продавать некоторые из своих великолепных имений или обращаться за денежной помощью к друзьям-сотоварищам по кутежам. А когда не оставалось надежды и на близких по духу заимодавцев, то Лоренцо без особых укоров совести со свойственною ему во всем изящной небрежностью запускал, точно в собственный, руку в общественно-государственный карман, чего отродясь не водилось за его оборотистым, но по-своему совестливым дедом Козимо.
А внук «из жадности к незаконным выгодам» много раз добивался, чтобы выдача жалованья флорентинским войскам производилась из его собственного банка. И наконец однажды бесцеремонно наложил руку на Monte commune — кассу государственного долга и общественную свадебную кассу, обеспечивавшую минимальным приданым при выходе замуж бедных девиц. Обе состояли из доброхотных частных пожертвований и до того считались неприкосновенной святыней. И это прямое обездоливание бедняков оказалось вторым из самых гнетущих воспоминаний некоронованного монарха, который теперь сам язвит свою душу, не ведая ни забвения, ни отвлечения от мук, точно по гневному слову непримиримого своего обличителя: «Напрасно бросишься ты направо и налево, везде поразит тебя бич, всюду встретишь ты мрак, и негде тебе будет преклонить голову. Мрак везде, все в смятении и ужасе — земля, небо, луна, ангелы, сам бог».