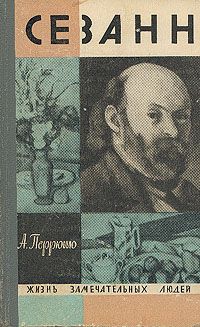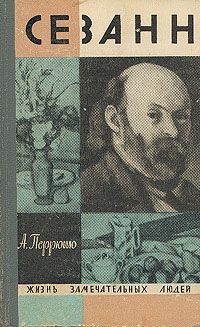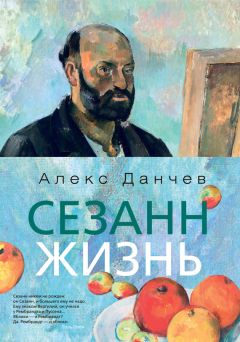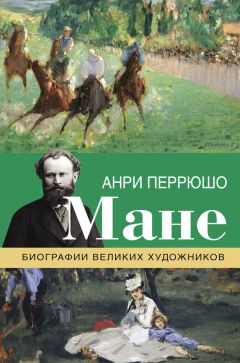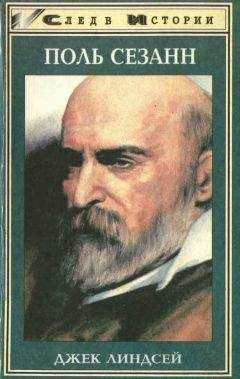Бернар Фоконье - Сезанн
В Эксе он тоже не находит себе покоя: «Школьники из Вильвьея, проходя мимо меня, обидно обзываются. Мне надо бы подстричься, видимо, мои волосы слишком уж отросли». Его жизнь, как он пишет, «начинает походить на водевиль Клервилля[168]». В перехваченном Луи Огюстом письме хозяина парижской квартиры, которую снимал Поль, говорилось о неких «посторонних лицах», и банкир решил, что его сын «укрывает у себя в Париже каких-то женщин». На самом же деле Сезанн оставил ключ от квартиры знакомому сапожнику, который поселил в ней своих родственников, приехавших в Париж на время проведения там Всемирной выставки. Но Луи Огюсту кругом виделось зло, в том числе и в собственном сыне — этом развратнике, строящем из себя целомудренность. В сентябре — новая тревога: в Жа де Буффан пришло письмо, адресованное Гортензии её отцом. «Можешь себе представить, что тут было», — пишет Поль Эмилю. Ад кромешный.
А если это была всего лишь стариковская ревность, комплекс фрустрации? В конце сентября случилось нечто неожиданное: Луи Огюст, ещё довольно крепкий старик, вдруг влюбился. «Папа дал мне в этом месяце 300 франков. Неслыханная щедрость. Мне кажется, что он положил глаз на одну симпатичную горничную, что работает в нашем доме в Эксе». Итак, Луи Огюст стал жертвой синдрома Виктора Гюго, большого любителя субреток. Говорите, жизнь страшная штука? Но порой она превращается в приятную любовную интрижку.
В довершение всех бед этого трудного для Сезанна 1878 года Гортензии срочно понадобилось уехать на некоторое время из Прованса в Париж. Причины её поездки не совсем ясны. Неотложные семейные дела? Необходимость повидаться с близкими или обеспечить уход за заболевшим родственником? Может быть, желание просто передохнуть? Атмосфера, в которой Гортензия жила в Марселе, была для неё слишком тягостной, затянувшийся водевиль всё больше походил на унизительную игру в прятки. Гортензия чувствовала неприязнь к себе со стороны матери и сестёр Поля, хотя госпожа Сезанн сразу же искренне полюбила внука. После отъезда Гортензии Поль живёт с сыном в Эстаке и всё время дрожит, боясь, что отец неожиданно нагрянет туда. Как назло, осень выдалась дождливой и не располагала к работе на пленэре. Сезанну приходилось сидеть в доме у разведённого огня вместе с непоседливым Полем-младшим. «Он просто несносен, — пишет художник в январе Виктору Шоке, — мы ещё с ним нахлебаемся!» Он в третий раз перечитал книгу, которая произвела на него огромное впечатление, — «Историю живописи в Италии» Стендаля. «Нить рассуждений автора столь тонка, что часто ускользает от меня, я это чувствую, но сколько интересных историй он рассказывает и сколько реальных фактов сообщает!» — делится он с Золя.
Гортензия наконец-то вернулась. «В Париже у неё была какая-то интрижка, — добродушно замечает Сезанн в другом письме к Золя, от 19 декабря[169]. — Я не хочу доверять эту историю бумаге, расскажу тебе её по возвращении, правда, в ней нет ничего особо интересного». Итак, мы остались с носом. Больше об этой «интрижке» нигде не упоминается. Флирт? Нечто большее? Или вообще что-то другое? Во всяком случае, Сезанн реагирует не как влюблённый мужчина, а как мальчишка, которому хочется рассказать забавную историю своему другу Золя. Муки ревности ему явно были незнакомы. Видимо, для этого ему нужно было всё ещё любить Гортензию, если он вообще когда-либо её любил.
Это был период колебаний, сомнений и разочарований. 19 января 1879 года Сезанну исполнилось 40 лет. Он чувствовал себя загнанным в угол. Из его переписки с Виктором Шоке мы узнаём, что в начале года он интересовался, каким образом можно переслать из провинции картину на Салон. Он утверждал, что это нужно «одному его другу». Странно. Кто был этим «другом»? Он сам? А может быть, Ахилл Амперер, с которым Сезанн вроде бы вновь стал видеться в Эксе? Амперер по-прежнему прозябал в нищете, его висение на трапеции роста ему не прибавило; на жизнь он зарабатывал чем и как придётся, часто его видели возле университета и собора Святого Спасителя, где он околачивался, предлагая студентам собственного изготовления рисунки порнографического содержания, сюжеты для которых ему подсказывало его богатое воображение.
А Сезанн, по правде говоря, оказался на распутье. Он вновь решил попытать счастья на Салоне, куда пока так и не смог пробиться, а посему не хотел рисковать, экспонируя свои работы на выставке импрессионистов 1879 года, не без оснований полагая, что его присутствие там окончательно закроет перед ним двери Салона. Из письма Камиля Писсарро от 1 апреля 1879 года ясно, что Сезанн отказался-таки от участия в ней. Немаловажную роль тут сыграло и то, что он не считал себя импрессионистом, успех которых был уже не за горами; он был просто Сезанном.
Автопортрете мольбертом. 1885–1887 гг.
Портрет Луи Огюста Сезанна, читающего «Л’Эвенман». 1866 г.
Увертюра к «Тангейзеру». 1868 г.
Дом повешенного в Овере. 1872–1873 гг.
Современная Олимпия. 1873–1874 гг.
Мост в Менси. 1879 г.
Гора Сент-Виктуар. 1885–1887 гг.
Вид Сент-Виктуар с Дороги Лов. 1902–1904 гг
Автопортрет на розовом фоне. 1875 г.
Мадам Сезанн в оранжерее. 1890–1892 гг.
Купальщицы. Фрагмент. 1899–1906 гг.
Бибемюские каменоломни. 1895 г.
Озеро Анси. 1896 г.
Вид на Эстак в окрестностях Марселя. 1882–1883 гг.
Дом и деревья в Жа де Буффан. 1889–1890 гг.
Портрет Амбруаза Воллара. 1899 г.
Игроки в карты. 1890–1892 гг.
Хризантемы. 1896–1898 гг.
Старуха с чётками. 1895–1896 гг.
Натюрморт с черепом. 1895–1900 гг.
Натюрморт с драпировкой и кувшином. Около 1899 г.
Пьеро и Арлекин (Марди Гра). 1888 г.
Не он один проявил подобную сдержанность в отношении готовящейся выставки импрессионистов. В воздухе по-прежнему витала идея создания новой школы или движения, а истинный художник всегда одиночка, он — индивидуальность. К великому неудовольствию Дега, предпринявшего массу усилий, чтобы эта выставка всё-таки состоялась, и вложившего в это дело собственные средства, Моне, Сислей и Ренуар решили в ней не участвовать, дабы не раздражать жюри Салона. Моне и Ренуар будут на него допущены, Сислей — нет. Сезанн, естественно, тоже.
Хотя он даже не погнушался пойти на поклон к супостатам. Подавив стыд, он обратился к Гийеме, ставшему в Салоне своим, с просьбой замолвить за него словечко. Правда, никаких компромиссов и уступок в эстетическом плане он делать не собирался. И «жестокосердные судьи» вновь завернули его картины. Они безжалостно подвергли его «сухому гильотинированию». Той же весной Сезанн уехал в Мелюн.
МЕДАН
На авторские гонорары за «Западню» Золя сделал себе подарок — купил, как он написал своему старику-учителю Флоберу («старику» было всего 57 лет, но жить ему оставалось уже недолго), «крольчатник». Это он, конечно, поскромничал. «За девять тысяч франков, — уточняет Золя, — я специально называю вам цену, чтобы вы не прониклись ко мне слишком большим уважением. Литература оплатила это скромное деревенское пристанище, главное достоинство которого заключается в том, что оно находится вдали от железнодорожной станции и по соседству нет ни одного буржуа». На самом деле «крольчатник» представлял собой довольно просторный дом, в котором Золя тут же начал работы по его расширению. Да, по соседству с ним буржуа не было, но они постоянно стекались в Медан из Парижа целыми толпами. Это было нескончаемое дефиле художников, писателей, издателей, журналистов и другой пишущей братии. Золя чувствовал себя центром этого круга, его королём — всё так же присюсюкивающий, но ставший таким важным — наконец-то! Был ли он счастлив? Это уже другой вопрос. Он трудился, трудился не щадя себя, дабы не упустить ни капельки так тяжело доставшейся ему славы. Его рабочий кабинет представлял собой огромную комнату с высоченным потолком, обстановка которой не отличалась строгостью стиля: Золя восседал в кресле эпохи Людовика XIII перед письменным столом, по размерам вполне пригодным для того, чтобы танцевать на нём французский канкан. На вытяжном колпаке огромного камина золотыми буквами была начертана надпись: Nulla dies sine linea — «Ни дня без строчки». Обстановка и убранство этого дома ослепляли роскошью недавно обретённого богатства и выдавали безудержную страсть хозяев к приобретательству всё новых и новых вещей после долгих лет вынужденной экономии: средневековые доспехи, ковры, фарфор, статуэтки — это было нагромождение разномастных по стилю дорогостоящих предметов, никак не вяжущихся друг с другом, этакая пещера Али-Бабы, где строгая готика спорила с вольностями «полиссона»[170], а восточный стиль — с итальянским барокко. Выглядело это впечатляюще и одновременно как-то ребячливо, наводя на мысль о подражании Гюго с его любовью к излишествам и разным завитушкам в декоре, а ещё на другую — о том, что в будущем назовут сюрреализмом.