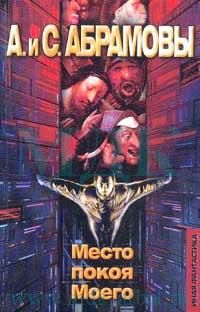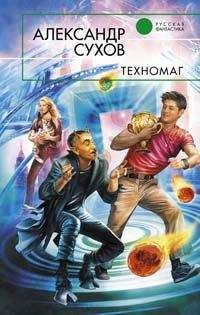Артём Варгафтик - Партитуры тоже не горят
«Невольно к этим грустным берегам меня влечет неведомая сила!» — как говорится у поэта. Мы немного отвлеклись от того списка, который, собственно, составляет цикл Моя родина и по которому мы изначально шли. За Влтавой идет симфоническая поэма Шарка, самая таинственная и «самая заводная» по музыке часть всей этой шестичастной истории. Душераздирающее средневековое сказание о княжне, которая решила отомстить за нежданно-негаданно случившуюся измену ее суженого — причем отомстить всем мужчинам. Она опоила каким-то зельем целую дружину рыцарей, потом их сонных перерезали, а потом и она сама погибла жуткой смертью. Как ни странно, это тоже образ родины, а не просто какие-то там инеем покрытые средневековые сказки. Это образ страны, которая очень на многое способна. Даже сама не знает, на что способна, если ее по-настоящему довести.
Еще один шаг по списку. За Шаркой идет симфоническая поэма Из чешских полей и лесов, хотя точнее будет Из чешских лугов и рощ. Это идеальная рама для того, чтобы представить в ней нечто не просто красивое, а по-настоящему трогательное, то, от чего трудно оторвать взгляд. И небеса, и рощи, и зелень — все, что привлекает в ландшафте собственной страны. Здесь Сметана не знает себе равных. Никто так красиво не объяснялся в любви природе.
Когда Сметана уже окончательно смирился с тем, что глух и так будет всегда, и даже немного к этому привык, успокоился, он заканчивает две последние симфонические поэмы цикла Моя родина. Самая последняя — это Бланик. Мрачная, торжественная, светящаяся каким-то потусторонним светом средневековая легенда. Бланик — это холм в Западной Чехии, вернее сказать, курган, под которым не покоятся, а, согласно легенде, прячутся, ждут в укрытии своего часа какие-то сказочные великаны-воины. И когда этот час пробьет, они встанут, чтобы бороться за свободу родины. Предпоследняя поэма — это едва ли не самое мрачное, что создано Сметаной вообще. Это Табор. Он выжимает не только сок и мякоть из старого средневекового гуситского хорала. В лучших традициях Франца Листа все построено только на одной теме. Но картина получается живая, как будто на ней еще не просохли масляные краски. Это та самая религиозная война, которую, несмотря на давность времен, в Чехии до сих пор помнят очень хорошо.
Если вы сочиняете летопись или роман о преданьях старины седой, о замках, рыцарях, склепах, о золотом веке, то надо помнить одну очень простую вещь. Все это кого-то заинтересует и тронет только в одном случае: если речь идет не о латах, мечах, подковах и шлемах — а о живых людях, более того — лично о вас. Если вы пишете о себе, о своих надеждах и поражениях, только тогда это будет правдой. Пусть это и неровно, пусть это и не вполне ложится во все прокрустовы ложа европейской музыкальной традиции.
Вот именно этим и взял Бедржих Сметана! Кстати, не все знают, почему Прага называется Прагой, даже те, кто очень любит торт соответствующего названия. «Праги» — это речные пороги на Влтаве, вокруг которых, собственно, давным-давно и начинал строиться этот город.
Сметана так и останется для истории своей страны и целой Европы одним из таких музыкальных порогов, поэтому действительно нет лучшего выбора для открытия музыкального фестиваля Пражская весна, чем цикл из шести симфонических поэм Моя родина.
Фридерик Шопен
Слабость и сила
Я пережил столько молодых и здоровых людей, что кажусь себе почти бессмертным.
Ф. ШопенС октября 1849 года для всех истинных, посвященных в «тайны» и «идеалы» романтиков начался обратный отсчет музыкального времени. И он продолжается до сих пор. От чахотки умер 39-летний Фридерик Шопен, польский гений с французской пропиской, композитор — фаворит статистического большинства слушателей, даже если они в этом не признаются, «поэт фортепиано», никогда на самом деле не умевший писать «стихов». Можно надеть шапки, панихиды не будет, зато будет несколько «почему», на которые полтора прошедших столетия не дали бесспорного ответа.
Среди всех классиков и романтиков Шопен — самая зацелованная «икона». И одновременно он же — самая пристреленная мишень, по которой трудно промахнуться. Графиня Мария дʼАгу (дама сердца Франца Листа) употребляла по адресу «записных шопенистов» замечательное гастрономическое выражение «пересахаренная устрица». Она же при этом утверждала, что «даже кашель мсье Шопена невероятно притягателен! Он совершенно неотразимый мужчина, только все время кашляет…» Что это, типично женская логика или логика истории?
В Большом зале Московской консерватории на сольных концертах пианистов самого разного полета первый амфитеатр (среди его обитателей — стайка дам «мемуарного» возраста) почти хором приветствует очередную мазурку на бис тихим вздохом «…ах, дорогой Шопен…» Хотя в большинстве своем слушатели прекрасно знают, что он может оказаться и «дешевым», «подержанным» либо «уцененным». Мало кто из композиторов, чьи портреты висят на стенах упомянутого зала, так сильно зависит от настроения, вкуса и прихотей исполнителей. Именно он, «дорогой Шопен», часто делает им карьеру, а они так же часто злоупотребляют его хитростями и свободой, которая выписана у него в нотах буквально на каждой странице. Разумеется, злоупотребляют ради его же гениальности и его же блага — ведь он же сам требовал «слияния играющей руки с клавиатурой» и сам научил последующие поколения виртуозов одной рукой изящно «воровать время» у другой, играющей, руки. Именно это и подразумевается, когда восхищенная публика обсуждает чье-то смелое tempo rubato (то самое краденое время) — не говоря уже о вошедшем в историю шопеновском «голубом звуке» рояля…
Шопен — вечный персонаж учебников, но не только по истории музыки. В курсе музыкальной психологии его приводят в пример как ярко выраженного «меланхолика», ссылаясь (как и положено) на Гиппократа, разделившего всех людей на четыре «подвида», смотря по тому, какой из телесных соков в них преобладает. Сангвиники, холерики и флегматики, у которых соответственно преобладаю кровь, желтая желчь и слизь, считаются «сильными».
А классический обладатель единственного «слабого» темперамента, окрашенного черной желчью, оказывается — к вечному удивлению студентов — в высшей степени непохож на свой «психологический портрет». Ведь добрый, романтичный, доверчивый, общительный, галантный (на всех портретах безупречно одетый) дяденька Шопен с орлиным носом не тянет на слабого и ранимого «неврастеника», впадающего в уныние от любой неожиданности и неспособного сосредоточиться на работе, если, например, идет дождь или дует из окна…
Практически вся музыка Шопена может служить примером того, как слабость оборачивается силой в точке полной «беспомощности». Самое распространенное суждение на сей счет сводится к французскому слову fragile (хрупкий), которое знакомо каждому, кто хоть раз сдавал бьющиеся предметы в багаж. Это слово не сходило с уст публики, для которой Шопен играл на званых парижских вечерах, и было посмертно «узаконено» Францем Листом в 1851 году. Нежность и хрупкость шопеновской музыки описаны им как «прекрасные цветы на необычайно тонких стеблях». Тот же Лист чрезвычайно приохотил публику к небольшим, но обязательным дозам «поэтических истолкований» любого самого безобидного пустяка, написанного Шопеном на бумаге. Про финал Второй фортепианной сонаты (три страницы черных нот в темпе presto, идущие сразу за шлягером всех времен — Похоронным маршем, который каждый день повсеместно «терзают лабухи») он сказал, что это «пронизывающий холодный ветер, свищущий над могилой героя». А другой музыкант услышал здесь только «три страницы светской болтовни».
Пометки в нотных тетрадях и черновиках рукой самого Шопена иногда гораздо жёстче. Там упоминается меланхолия, которая делает его сухим и холодным, как камень. Когда к профессору Генриху Нейгаузу долго приставали поклонники с просьбой истолковать начало одного из шопеновских скерцо, он наконец не выдержал и невозмутимо объявил им, что тихий дважды повторяющийся пассаж в левой руке — это «…свиньи, хрюкающие в хлеву в жаркий летний денек». Поклонники надолго задумались и потом решили, что толкование гениально. Любимый ученик Нейгауза Святослав Рихтер был одним из немногих, кто верил только в одно толкование Шопена — буквоедское. Любить Шопена для него означало правильно и точно читать его знаки и указания. Может быть, поэтому Шопен у Рихтера так не похож на себя в сравнении с Шопеном, прочитанным другими глазами. Он острый, холодный и прозрачный, как разрезанное алмазом стекло, реалистичный, и неуравновешенный, как и записано нотами, и только в отдельные минуты мечтательный. Прочие свойства Рихтер намеренно прятал от слушателей, всегда готовых при первых звуках сонаты или баллады растечься по тарелке, как пломбир.