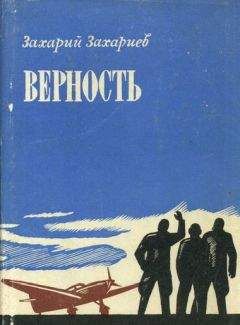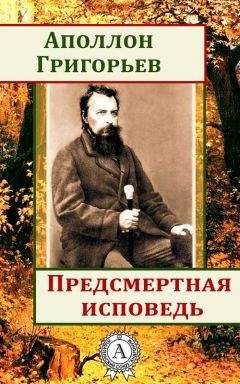Аполлон Григорьев - Великий трагик
Впрочем, я весь обратился в сомнение, – и вы, мои читатели – не слушайте меня, а поступайте по собственному сердцу. Если оно и лжет в вас, то лжет все-таки наивнее, добросовестнее чужого правила.
Когда я дошел до пьяццоны, обычная жизнь ее была в полном разгаре, т. е. праздношатающиеся юноши и старцы (некоторые из старцев пляшут во Флоренции до 80 лет, и с большим успехом) слонялись межу экипажами, передавая итальянским синьорам и нашим русским барыням обычные сплетни; грек, капитан российской службы, сидя на скамье подле музыкантов, рассказывал под гром музыки в стопятьдесятый раз о давно известном карнавальном скандале, не щадя репутации соотечественниц; столетний шевалье, спящий за зваными обедами, потому что спать ночью мешают ему стукающие духи, и евший, по сказаниям общества, человеческое мясо на островах Тихого океана, таскал по пьяццоне свою длинную и худую, как шест, особу; англичанки с неподвижною чинностью сидели в колясках, а зато одна из наших львиц хохотала без умолку с пожилым, но красивым итальянцем, картинно опиравшимся правою рукою на ее коляску… одним словом, явления обычные.
Вдруг из-за толпы, окружавшей музыкантов, которые играли из Верди что-то неумолимо-шумное, показался Иван Иванович. Я так и бросился к нему.
– Хорош, нечего сказать, – закричал я, невольно увлекшись нежданностью его появления, – хорош! Во Флоренции – и глаз не покажете.
– Здравствуйте, – отвечал он, прорываясь ко мне и обеими руками схватывая мою протянутую руку. – Можете себе представить, – продолжал он, – что я только что сейчас с железной дороги.
– Как сейчас?
– Так… Багаж – впрочем, багаж мой, как вы знаете, весьма невелик, – прибавил он с добродушнейшею улыбкою, – бросил в Сан-Донато у приятеля, а сам помчался сюда, чтобы как-нибудь добить полтора часа до театра.
– До театра? Что вдруг за страсть припала к театру… Корради, что ли, вы не слыхали? Он спал с голосу: тенор слаб – basso profundo[27] груб, как дубина, и трио идет отвратительно. А примадонна – немка. В дуэте Арнольдо и Матильды[28] она и тенор это две немазаных телеги, которые одна на другую наезжают… – Все это проговорил я скороговоркою и со всем увлечением злобной досады, потому что накануне был жестоко обманут в своих ожиданиях насчет «Вильгельма Телля». Обещала Пергола[29] в этот сезон что-нибудь путное и надула страшно. Во всю осень и зиму только и был хороший оперный сезон от сентября до половины декабря, когда в Перголе пели «Джованну du Гузман» (местное переименование «Сицилийских вечерен»)[30] да «Троватора»[31] Альбертини и муж ее Бокарде, а в Пальяно Ремиджио Бертолини без особенного искусства, но с могучестью свежего голоса и дикою энергиею производил Рауля в «Anglican!» (местное же переименование «Гугенотов»)…[32] Иван Иванович знал все это, как и я же, – и оттого-то стремление его к театральному позорищу показалось мне поистине изумительным.
Но, прежде всего, вы не знаете, мои почтенные читатели, кто такой Иван Иванович. Скажу вам откровенно, что вы и мало узнаете о нем и о его судьбах из сего первого рассказа. Одиссея о нем – весьма длинная одиссея. На первый раз скажу вам, что Иван Иванович один из моих старых университетских товарищей, что в былые времена подавал, как говорится, «блестящие надежды» всему своему факультету и последующею жизнию жестоко разочаровал благодушно-доверчивый и почтенный факультет в его надеждах, что вот уже года четыре, как он шляется за границею, проживая маленький капитал, который достался ему после престарелой бабки. Мы с Иваном Ивановичем живали несколько раз полосами общею жизнию – и вот в городе Флоренске выпала нам опять такая общая полоса. Скажу вам еще, что Иван Иванович – брюнет, и, кроме знойно черных, но каких-то усталых глаз, особенных примет не имеет: с лица довольно худ, И' худоба его еще поразительнее от его длинных, висящих до плеч волос, губы у него тонкие и бледные, иногда странно судорожно подергивающиеся – и это самая резкая особенность его физиономии. Что вам еще прибавить о нем? Да… он отлично играет на гитаре, хоть никогда этим, как, может быть, и ничем вообще серьезно, не занимался – и от него-то с предпоследней полосы нашей общей с ним жизни происходит моя несчастная страсть к этому инструменту, очень нелегко дающемуся, несмотря на все мои труды и усилия, приводившие в глубокое отчаяние всех моих домашних и всех московских друзей, и поныне, рано или поздно, но постоянно успевающие приводить в некоторое остервенение хозяев различных квартир и отелей, в которых случается мне жить за границею. Есть безнадежные страсти, и они с летами безнадежно же укореняются. Выщипывать иногда тоны из непослушного инструмента стало для меня такой же необходимостью, как выпить утром стакан чаю, – и ведь надобно правду сказать, что, когда я говорю о безнадежности страсти своей, я делаю уступку злым приятелям и не менее злым хозяевам квартир и отелей. Надежда никогда не покидает человека. Во всяком случае, в моей гитарной страсти виноват Иван Иванович, виноваты эти полные, могучие и вместе мягкие, унылые, как-то интимные звуки, которые слышал я только от него и от Соколовского и которые, как идеал, звучат в моих ушах, когда я выламываю свои пальцы. Один из злых приятелей,[33] из лютейших и безжалостнейших врагов моей гитары, – в минуту спекулятивного[34] настройства, когда всякое безобразие объясняется высшими принципами, понял это. «Господа, – сказал он, обращаясь к другим приятелям, – они в это время играли все в карты, а я, уставши играть и взявшись за лежавшую на диване гитару, старался выщипать унылые и вместе уносящие тоны «Венгерки». – Господа, – сказал мой приятель (вероятно, ему пришли в это время в голову разные выводы из столь любимой им психологической системы Бенеке), – я понимаю, что он слышит в этих тонах не то, что мы слышим, а совсем другое».
Действительно – широкая и хватающая за душу, стонущая, поющая и горько-юмористическая «Венгерка» Ивана Ивановича раздавалась в это время в моих ушах.
«Да нам-то каково!..» – заметил на это другой приятель. Все захохотали, но замечание психолога все-таки было справедливо, – и я до сих пор, без надежды когда-либо услышать вновь в действительности могучий тон Ивана Ивановича, слышу его «душевным ухом». Почему же не быть и душевному уху, когда Гамлет видит отца в «очах души» своей. Но довольно обо мне и довольно об Иване Ивановиче – о нем, разумеется, довольно только на сей раз.
В ответ на всю мою злобную выходку против флорентийской оперы Иван Иванович сказал только:
– Гусь же вы, однако!
– Как гусь?
– Так, как гуси бывают… Вы толкуете мне об опере, а я вам говорю о Сальвини… – И он взглянул при этом настолько с торжеством, насколько обычная, унылая усталость его взгляда допускала торжество… – А я вам говорю о первом трагике Италии, – продолжал он с жаром… – может быть, – добавил он еще с большим жаром, – о первом трагике в свете… Понимаете?
– Нет, все-таки не понимаю – ich bin eben so klug, wie ich vordem war,[35] как говорят немцы.
– Здесь ведь теперь в Кокомеро играет драматическая труппа – не так ли?
– Да… только я в Кокомеро не был с тех самых пор, как мы вместе с вами слышали импровизаторшу…
– И когда мы ее так безжалостно с вами отделывали – помните? – сказал он смеясь.
– Мы с вами… т. е. вы ее отделывали, – возразил я… – Вот то-то и дело, бог вас поймет, Иван Иванович, то вы все режете анатомическим ножом, то вы чуть что не скачете от какого-то неизвестного господина Сальвини… Это у вас капризы, немецкая Laune,[36] приливы…
– Неизвестного… – проворчал сквозь зубы Иван Иванович… – И это говорит господин, – продолжал он громко и сердитым тоном, – который имеет претензию на самостоятельность взгляда, на неподогретость – я вашим языком говорю – чувства… И, во-первых, это неправда. Сальвини играл в Париже и произвел там фурор, а во-вторых, и Мочалов был неизвестен в Европе.
– То дело другое, – возразил я, – мы еще не Европа.
– Да неужели вы думаете, что итальянский актер бывает известен где-нибудь, кроме Италии? Я говорю об актере, а не о певцах.
– Чувствую… А Ристори?
– Видели вы Ристори?
– Нет, не видал, но о ней много говорят.
– И я не видал, и я знаю тоже, что о ней много говорят. А знаете ли, почему говорят и именно говорят во Франции?… Потому что во Франции была Рашель, – а такое необычайное явление как-то требует всегда сравнений и сличений… Я думаю, что если б какая-нибудь эфиопка приехала в Париж играть роли Рашели на эфиопском языке – французы и ее бы сравнивали с Рашелью… А кстати, – окончил Иван Иванович… – Не совестно вам было написать ваше стихотворение «Рашель и правда»?