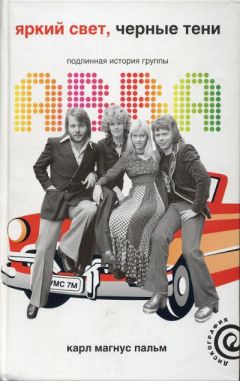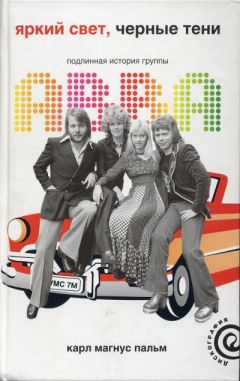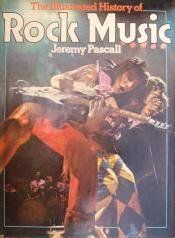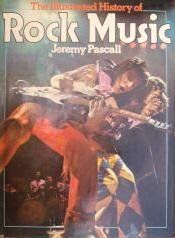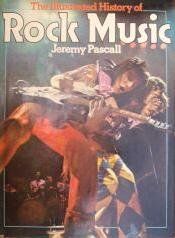Анатолий Луначарский - ОБ ИСКУССТВЕ. ТОМ 2 (Русское советское искусство)
Не правда ли, как своеобразно, что крупный художник может приводить все свое творчество в соответствие с «теперешним обиходом», единственную цель своего творчества видеть в «убранстве помещений» (притом чьих же? — очевидно, богатых буржуа!), что он может видеть в картинах только «крикливые, расписанные куски холста»?
Но разве в действительности огромное большинство «картин», выставленных рядом с декоративными панно Боткина, не заслуживает вполне его характеристики? Да. Но разве это картины?
Живописец–поэт, конечно, думает не о том, к какому зданию подошли бы его картины. Свою картину, воплощенную мечту, философскую поэму в красках он, скорее, готов признать за сокровище, ради которого должны строить особые здания. Но так мыслить о своих произведениях может только живописец–поэт, гений мысли и чувства, выражающий свою душу через посред- ? ство красок. И если приходится выбирать между «крикливыми, пестрыми кусками полотна в рамках» и чисто декоративною живописью, то преимущество, действительно, придется отдать последней…
Г–н Бенуа тоже больше автор этюдов, чем картин, но зачастую он находит интересные настроения. Впрочем, он особенно силен в своих рисунках, и рисунки его ближе, как это ни странно, к «картинам», чем его произведения, писанные масляными красками. Но хуже всего то, что г. Бенуа, по примеру многих, выбрал себе особую специальность. Теперь очень принято среди живописцев и молодых поэтов находить и защищать свою оригинальную индивидуальность, облюбовав какой–нибудь, иногда до смешного узкий и нарочитый род сюжетов. Г–н Бенуа облюбовал Версальский парк. Тысяча и один этюд Версальского парка, и все более или менее хорошо сделаны. И все–таки хочется сказать: «ударь раз, ударь два, но нельзя же до бесчувствия». Ибо г. Бенуа вызвал в публике род специального психического оглушения: Версаль перестал действовать. «Как хорошо!» — говорит публика и широко, широко зевает.
Г–н Билибин очень талантливый художник и прирожденный сказочник. Он много способствовал созданию фантастичного и изысканно–наивного стиля, который так прелестно оживляет русскую сказочную старину. Но на выставке, о которой я говорю, г. Билибин представлен в своем «новом» роде. Даровитый сказочник забыл, оставил в стороне свой юмор, свою древнерусскую грезу, свое узорное синее море и увлекся каким–то замысловатым фокусничанием, какими–то виртуозными линейными головоломками. Эти сухие, сухоостроумные геометрические виньетки, на мой взгляд, не имеют ни малейшего истинно художественного достоинства. Я вовсе не зову г. Билибина назад, к его былинному жанру—пусть он идет вперед; но его виньетки и обложки отнюдь не шаг вперед, а шаг назад: содержание окончательно улетучивается, остается одна формальная, скучная игра в капризные завитушки и затейки.
Молодой художник Чемберс несомненно что–то обещает. Но пока он неотступно подражает Бердслею. Это почти дико. Как можно подражать художнику, который стоит совершенно особняком, художнику–чудаку, грациозному, странному и абсолютно самобытному, индивидуальному? Не может быть, чтобы у Чемберса была душа Бердслея, и так как этого нет, то и подражание тут заслуживает осуждения. Можно учиться у мастера, открывающего новые общие пути, но безвкусием веет от подражателей неподражаемому, одинокому: По[10], Тернеру, БердсЛею.
Где творчество?
И Л. Пастернак не дал ничего. Его большая картина красива красотою заимствованных форм; она называется «Воспоминание об Италии» и представляет собой ловко скомбинированные фигуры спящих женщин Микеланджело и других старых мастеров; красивое четырехстишие Буонаротти подписано под картиной. Торжество заимствования, почти плагиат под соусом своеобразного колорита. Остальное — херуммоделирование. И на этот раз даже в смысле исканий и технических приобретений или намеков и кусочков настроения — все малоинтересно, за исключением, может быть, «Студентки», которая все–таки остается позади старой «Курсистки» Ярошенко.
Перечисленные мною художники принадлежат к числу талантливых, серьезных и уважаемых артистов. Тем обиднее, что дары их на сей раз были еще более скудны, чем обыкновенно. Потому что картины — «une oeuvre»[11] — еще никто из них не дал.
Но вот г. Милиотти. Можно искать. Можно в исканиях быть смелым. Например, Крымов с его этюдами, писанными так, словно они просвечивают сквозь вуаль, или Досекин с его оптическими обманами, пущенными в ход для достижения впечатления ослепительности солнечного диска, — очень смелы. Мы знаем искателей, дерзких до безумия. Таков Врубель. И часто, даже сплошь и рядом, непонимание и осмеяние — удел новаторов, непризнанных гениев.
Живопись недавно пережила эпоху, особенно богатую непризнанными талантами. В другом месте я пытался объяснить их появление и последовавшее затем оскудение *. Публика опешила; она хохотала, ее внушительно ругали, для нее жевали, клали ей в рот. Рот этот открывали все шире, и публика, перейдя от недоумения к преклонению, стала отвешивать поклоны осмеянному.
* См. мою статью «Осенний салон» в журнале «Правда». (Примеч. автора). См. с. 52, т. I настоящего сборника.
(Примеч. сост.).И вот теперь, какую бы чепуху ни поднесли публике — по крайней мере ее «эстетически передовой» части, — она прищуривается и говорит загадочно и глубокомысленно: «Н–да!». Чем непонятнее мнимохудожественная неразбериха, тем задумчивее ценитель: он боится попасть впросак и выдать с головою свою непосвященность в тонкости самоновейшей красоты. Получается история андерсеновского короля, который был гол, и народа, который уверили, что на короле прекрасное платье, невидимое только дуракам.
Художественные достоинства произведений братьев Милиотти, на мой взгляд, совершенно подобны этому королевскому платью. У Милиотти нет ничего: ни идеи, ни настроения, ни красоты полотна, ни рисунка, есть только одна непроходимая, фатовская, шутовская претензия. Неужели и этого достаточно, чтобы быть в глазах г. Дягилева и его друзей выше Васнецова? Можно думать, что воскрес с новой силой — и в более прикровенной, лицемерной форме — девиз старой романтической богемы: «II faut epater bourgeois» ,[12]
Порадоваться можно Кустодиеву. В нем не только хорош здоровый, ясный, сочный реализм техники; хорошо и то, что его интересует жизнь — живая, кипучая, разнообразная, разноцветная жизнь, реальность сама по себе, а не как предлог для колористических эффектов. Я должен сказать, что на меня Кустодиев производит впечатление одного из самых сильных виртуозов техники. Взгляните, например, на портрет какого–то великого князя, выставленный им: это пес plus ultra [13] живописного шика; и все–таки психолог не отсутствует. Но с той точки зрения, став на которую я обозревал выставку, для меня интереснее было содержание кустодиевских картин. В чем ищет он живописание? В подлинных проявлениях человеческой жизни. С этой точки зрения его пестрая, веселая, простонародно–бодрая «Ярмарка», схваченная глазом ясным, умом живым, сердцем отзывчивым, рукою сильной, переданная с добрым и мужественным юмором, — уже почти картина, почти поэма. Некоторая эскизность, отсутствие внутренней серьезности при работе делают, однако, это произведение только весьма ярким и симпатичным этюдом.
Очень живо полотно, озаглавленное «Провинция». Слышались восклицания: «Да это Тотьма!» — «Это наш Царевококшайск!» — «Смотрите, смотрите — совсем Пирятин!» Действительно, общее схвачено. Зеленая пустота, скучная каланча, какие–то каменные лавки, сонная тишь в воздухе, сплетничающие кумушки, одинокие на широкой, по–русски широкой площади. Сонный мир, как будто и приятный, почти умилительный, и вместе такой смешной и такой… проклятый. Да, это — провинция. И это — тоже почти картина. Великолепны по жизненности выражения и по все тому же ясному, солнечному отношению художника и портреты, особенно дочурки художника.
Большое полотно «На веранде» показалось мне совершенно ненужным. А между тем на него г. Кустодиев потратил, по–видимому, много времени и сил. Как «картина» полотно это ничего не говорит. Но и как этюд оно, мне кажется, не имеет большой цены.
Г–н Малявин — художник, который дал картины, дал поэмы в красках. Его «Вихрь» — крупное поэтическое произведение. Вообще малявинская «баба» — это прекрасное в своей грубости, увлекательное в своей стихийности существо, не уступающее бёклиновским элементарным духам. Дай бог, чтобы Малявин был прав; — хорошо, если в нашей деревне действительно много таких баб.
И новая «баба» Малявина очень хороша. Это интересная вариация. Она тоже стоит перед зрителем в пламени своего развевающегося искрометного сарафана, как саламандра среди пожара, но она лицом и станом красивее всех, до сих пор рожденных талантом Малявина сестер своих. Ее лицо очаровательно в жутком смысле этого слова: баба–колдунья, баба–Лорелея!