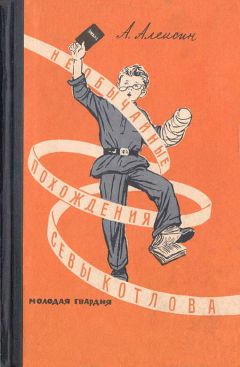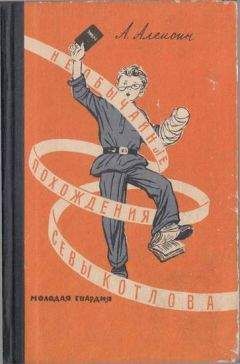Григорий Островский - Захарий Зограф
«Очень прошу Вас сообщить, что означает их варварское обхождение. Не хочу унижаться, спрашивая их» (10 октября 1838 года).
«Воистину, если бы мое сердце стало океаном и если бы я его излил слезами перед Вашим милостивым лицом, то и тогда не был бы достоин прощения и помилования Вашего за Ваше теперешнее бедственное положение. Поверь мне, благоразумный учитель, мне стало очень стыдно, когда я узнал о своем легкомыслии. И когда я читал в предыдущем письме, где ты обещал в следующем рассказать о своем бедственном положении, а меня, легкомысленного, можно укорять, чего я и ждал от Вашего письма, однако такого письма я не получил и понял, что Вы по-прежнему меня любите, даете по-отечески советы и говорите, что искренне меня уважаете. Мое отношение очень переменилось, когда я увидел от Вас столько милости. Сейчас я только прошу Вас не жалеть меня. Жажда просвещения меня побуждала и слепота наших единородных проклятых болгар» (7 ноября 1838 года).
Этого позора пловдивским — и не только пловдивским — чорбаджиям Захарий не простит никогда. Много лет спустя, в последний год жизни, он пишет о равнодушных к народному просвещению, «у кого не головы, а тыквы». Назревавший годами конфликт Захария с чорбаджиями прорвался резкими, разящими словами художника в адрес «родолюбцев».
Неверно было бы объяснять это только личной обидой обманутого в лучших ожиданиях художника. В немалой степени конфликт стал следствием и выражением углублявшегося в болгарском обществе социального расслоения, противостояния крестьян, ремесленников, трудового люда, с одной стороны, чорбаджиям — с другой. «Все наши богатые чорбаджии, нажившие себе состояние, сколотили его путем различных насилий, притеснений, обмана. Иначе и быть не может. Исключения редки», — утверждал З. Стоянов. Другой крупнейший деятель национально-освободительного движения, Г. Раковский, еще более решителен: «Когда мы говорим народ, мы понимаем в данном случае всех добрых болгар, за исключением чорбаджиев».
Очевидно, в неоднородной среде болгарских чорбаджиев середины века встречалось немало просвещенных и патриотически настроенных людей, активно участвовавших в борьбе за болгарские училища и независимую болгарскую церковь, поддерживавших школу, литературу, искусство. Но куда больше было тех, кто, опасаясь просвещенного болгарина не меньше, чем иноверца, искали согласия с властями и высшим греческим духовенством, фанариотами, и в то же время старались не утратить своего положения в болгарском обществе. «Душу дает, денег не дает», — говорили о таких в народе. А если и давали деньги на школы, то бесцеремонно вмешивались в их дела, смещали и назначали учителей, а бывало, что и злоупотребляли собранными на училище средствами.
Как и все болгарские зографы первой половины XIX века, Захарий был тесно связан с кастой чорбаджиев: чаще всего они и были ктиторами храмов и монастырей, а церковь оставалась не только основным, но и фактически единственным заказчиком. Сохранить если не материальную, то духовную независимость от сильных мира сего было нелегко. Захарию это удалось, хотя и платил он сполна за каждый жизненный урок.
Годы шли, и Захарий был уже далеко не тем, кто несколько лет назад покинул отчий кров. Он много узнал, увидел, пережил. Уверовал в себя, в свой талант; к нему пришло признание. Непосредственная причастность к общественным проблемам и делам плодоносила порой горьким жизненным опытом, широким и трезвым пониманием современной жизни народа.
Молодость уходила. Сверстники художника уже остепенились, обзавелись своими домами, женами, детьми, а он был все еще холост и одинок. Вылко Чалыков прочил за него одну из учениц Неофита Рильского, Марию, но сватовство не состоялось.
В 1838 году, в один из своих наездов на родину, художник познакомился с Катериной, дочерью состоятельного торговца и влиятельного самоковского обывателя хаджи Гюро Христовича; его сыновья Димитр, Иван, Христо и особенно Захарий играли впоследствии видную роль в борьбе за церковную независимость.
Любовь Захария Зографа и Катерины была взаимной, однако прошло три года, прежде чем судьбе угодно было соединить их брачными узами.
Трудно сказать, что послужило причиной, но хаджи Гюро, резко настроенный против будущего зятя, согласия на свадьбу не давал. Можно строить различные предположения, и все же ни одно нельзя считать вполне достоверным. Не исключено, что Захарий сам дал к этому повод. Ходили слухи о его бурном увлечении гречанкой; не о ней ли сообщает он Неофиту Рильскому в одном из писем 1839 года? Речь идет в нем о некой «маленькой Русии», в судьбе которой художник принимает большое участие: «О малой Русии в самом деле и глухие цари слыхали, и каждый, кто не знает, пусть от меня узнает. Сейчас это уже не тайна. Знай об этом. <…> А первая малая Русия стала, как из могилы вставшая, муж ее — варвар и ревнивец, успеха ему не видать. <…> Когда поедем или пойдем куда-нибудь, следит за нами, так как все знают, почему она плакала. И беременная она. Скажи мне, что говорят, услыхав о малой Русии, ваши тамошние чорбаджии».
Еще одна — не первая и не последняя — загадочная страница в биографии нашего художника.
Самоковский роман, однако, продолжался; Захарий, видимо, совершенно покорил юную Катерину; она была уже готова во имя любви преступить родительский закон и пойти под венец без согласия непреклонного отца. Поступившись самолюбием и гордостью, Захарий призвал возлюбленную к смирению. Не желая обострять отношения с семьей невесты, он тем временем изливает душу в нежных посланиях из Пловдива в Самоков. «Дражайшая моя невеста Катерина, — пишет он 2 января 1840 года, — любовно тебя поздравляю, мило приветствую, любезно целую. Прими, любезная моя невеста, эту золотую монету, то есть этот червонец от меня за большую любовь нашу и будь благодарна за подарок от той церкви, которую я делал в этом году. Посылаю тебе это не от большого богатства, а от большой любви» [32, с. 41].
Сердечные волнения, однако, не мешали Захарию стремиться и к иным целям. Он хорошо знал, чего хочет, знал себе цену, и пришедшая к нему известность искусного иконописца его не удовлетворяла. Если трявненские зографы довольствовались иконами, то среди самоковских и банских особенно высоко ценились мастера церковных росписей, и Захарию не терпелось испытать себя и свои силы в большой работе, которая бы открыла ему более широкие возможности, прославила его. Оставалось ждать случая; и он скоро представился.
В древнем и славном Бачковском монастыре заканчивали возведение нового соборного храма св. Николая Мирликийского. В строительстве его участвовали своими пожертвованиями многие видные пловдивцы, а среди них первенствующее место занимали, как всегда, Вылко и Стоян Чалыковы. Их слово имело решающий вес, и Захарию предложили украсить церковь стенописями.
Это был уже не первый опыт художника в монументальной живописи, и потому он принимает почетный заказ без робости и смущения. Еще летом 1838 года он расписывает в Станимаке часовню Иоанна Крестителя церкви Благовещения богородицы (Рыбной): изображает богоматерь с ангелом — в куполе, на поддерживающих его парусах — Соломона с храмом в руке, Давида с ковчегом, Моисея с неопалимой купиной, Захарию с семисвечником, Иезекиила, Иакова, Аарона. Работа неровная и порой весьма наивная по исполнению, почерк еще не устоявшийся, колорит темноватый, как бы погасший, — многое выдает неуверенную кисть начинающего стенописца, но в целом Захарий заявляет о себе достаточно определенно. Библейских пророков он наделяет индивидуальными характерами и возвышенной одухотворенностью, очень изящны и благостны богородица и юный Захария; да и во всем остальном ощущается присущее художнику эстетическое отношение к теме, сюжету, человеку, а превосходно написанный орнамент напоминает о «самоковском барокко».
Тогда же или годом позже были созданы несохранившиеся росписи внешних стен церкви св. Георгия, принадлежащей Бачковскому метоху в Станимаке. В 1841 году, когда Захарий уже работал в Бачковском монастыре, он возвращается сюда и расписывает тройную арку на северной стене церкви конными фигурами: посредине, над входными дверями, — св. Георгий, по сторонам — сейчас плохо различимые, вероятно, Дмитрий Солунский и Федор Стратилат. Палитра Захария зазвучала ярким, интенсивным цветом, святые воины исполнены энергии и динамики, а в пейзажной партии центральной композиции выступают новые тенденции более непосредственного и реального изображения природы.
И в прямом, и в переносном смысле путь художника из Пловдива в Бачково лежал через Станимаку. Главное испытание было впереди.
СТЕНОПИСИ
БАЧКОВСКИЕ
Захарий имел основания гордиться: само приглашение украсить росписями церковь Бачковского ставропигийского монастыря было признанием его таланта и умения. Известность, которой пользовалась в Болгарии эта старинная обитель, уступала лишь славе главной национальной святыни — Рильского монастыря. Множество паломников приходило поклониться древней иконе «Богородицы Умиление», перенесенной сюда в 1310 году из грузинского монастыря в Карсе, испить целительной воды из источника св. Архангела, что в получасе ходьбы от монастыря, отдохнуть в тени громадного «джинджифа», а по-ученому — «диосперус лотос», посаженного на монастырском дворе еще в XVIII веке паломниками из Грузии. Каждый год стекались сюда толпы народа, особенно много — в конце августа на престольный праздник богоматери, совпадавший с завершением сбора урожая, до ранней зари у стен монастыря горели костры с подвешенными над ними котлами, звучали песни, кружились хоро́… А еще славился монастырь не только чудотворной иконой и источниками, но и по-особому ароматным напитком, настоянным на крупных, величиной с орех, розовато-желтых ягодах.