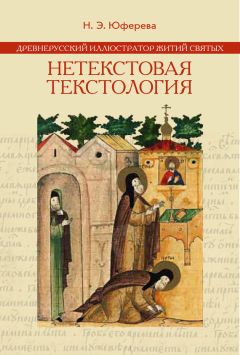Стюарт Исакофф - Громкая история фортепиано. От Моцарта до современного джаза со всеми остановками
Представления Листа — сам он называл их «фортепианными монологами» — отличались от большинства концертов тех времен тем, что он давал их в одиночестве, без какого-либо сопроводительного эстрадного шоу. «Концерт — это я!» — провозглашал композитор, беззастенчиво перефразируя Людовика XIV с его знаменитой фразой «Государство — это я», хотя на самом деле другой пианист, Игнац Мошелес (1794—1870), стал давать сольные концерты на несколько лет раньше, назвав их «классическими фортепианными суаре». Несмотря на отсутствие эстрадной массовки на выступлениях Листа, публике и в голову бы не пришло жаловаться на недостаток зрелищности. Он использовал буквально все известные на тот момент исполнительские трюки. «Мы вышли с концерта буквально в истерическом припадке, — рассказывал Генри Рив, будущий редактор Edinburgh Review. — Пока я вел мадам де Сиркур к ее карете, мы дрожали от смеха, словно осиновые листья, и, честно говоря, я и сейчас, когда это пишу, еле сдерживаюсь, чтобы не захохотать в голос».
Творческий обморок. Ванда Ландовска (из книги «О музыке»)
Некий пианист, столь же восхитительный исполнитель, сколь и ловкий трюкач, нанимал женщин (по двадцать франков за концерт), чтобы они симулировали обморок в середине его исполнения фантазии: он начинал ее в таком быстром темпе, что едва ли в человеческих силах было доиграть ее до конца. Однажды в Париже нанятая для обморока дама пропустила, погрузившись в беспробудный сон, свой «выход». Пианист в тот раз играл Концерт Вебера. Уповая на обморок этой женщины, который должен был прервать финал, наш пианист начал его в невероятном темпе. Что делать? Спотыкаться и путаться, как самый заурядный пианист, или изобразить провал памяти? Ничуть не бывало — он попросту сыграл роль нанятой дамы и сам упал в обморок. Вся публика кинулась на помощь пианисту — он предстал ей натурой еще более феноменальной, поскольку к стремительному исполнению добавилась хрупкая и чувствительная организация. Его отнесли за кулисы; мужчины неистово аплодировали, женщины размахивали платочками, а «обморочная» дама, проснувшись, на сей раз и впрямь упала в обморок — возможно, от отчаяния, что пропустила свою «реплику»[29].
Способность Листа к спонтанной импровизации тоже работала ему на руку. В Милане на входе в зал поставили специальную серебряную чашу: зрителям предлагалось опускать в нее записки с темами, вариации на которые он должен был создавать прямо на сцене. Некоторые привели композитора в недоумение — на одной, например, было написано: «Миланский собор». «Еще одна, явно брошенная человеком, который восхищен возможностью добраться из Милана до Венеции всего за шесть часов, содержала лишь два слова — „железная дорога“, — писал Лист скрипачу Ламберу Массару. — Наконец я развернул последнюю записку, и как ты думаешь, что я там увидел? Самый важный вопрос, который когда-либо решался с помощью фортепианных арпеджио, — „что делать, жениться или остаться холостым?“ Мудрый ответ Ференца Листа: „Что бы вы ни выбрали, женитьбу или холостую жизнь, все равно будете сожалеть“».
Но, конечно, основной привлекательной чертой Листа была непосредственно его игра на фортепиано: страстная, пламенная, абсолютно сногсшибательная — этими эпитетами можно описать не только его фортепианные концерты, но и многие его произведения для фортепиано соло, например набор демонических «Вальсов-Мефисто». Философ Фридрих Ницше написал композитору, что в постоянных поисках мастера, которому удалось бы лучше и полнее всего выразить в своем творчестве дионисийское начало, «он чаще всего обращается именно к нему».
Технические достижения Листа, конечно, были бы невозможны без появлениях новых моделей фортепиано, позволявших играть со значительно большей скоростью, чем раньше. Кроме того, было у него и секретное оружие: специальный инструмент для упражнений, клавиши в котором можно было нажать, лишь приложив огромные усилия. «Я специально заказал себе такое фортепиано, чтобы от исполнения одной гаммы уставать как от десяти», — объяснял он пианисту-любителю Вильгельму фон Ленцу, после того как ехидно пустил того попрактиковаться на нем, не предупредив об особенностях.
Играть Листа совсем не просто. Альфред Брендель (из статьи «Непонятый Лист» в книге «Брендель о музыке»)
От великого до смешного буквально один шаг. И пианисту [играющему Листа] нужно быть осторожным, чтобы не сделать его. Это очень легко — превратить истинное чувство в пародию, затушить листовский пылающий огонь так, что от него останется лишь стандартная героическая поза, а присущий ему тонкий лиризм интерпретировать в духе глянцевого, напомаженного жеманства. Пассажи, в которых композитор размышляет на религиозные темы, нужно подавать с должной простотой, не лишать его музыку присущего ей озорства, а также транслировать чувство глубокого смирения, которым проникнуты его на удивление сумрачные, неяркие зрелые произведения.
Игровая манера Листа была полной противоположностью стилю главного конкурента Сигизмунда Тальберга, с которым он в 1837 году устроил знаменитую «дуэль». По словам очевидца, Лист «все время откидывал назад свои длинные волосы, его губы шевелились, а ноздри раздувались», в то время как Тальберг «бесшумно вошел в зал, поклонился с холодным достоинством и сел за фортепиано, словно за обычный стол». Не зря Гейне называл Листа «Аттилой, Божьим бичом» — в его жизни, творческой ли, личной ли, не было места холоду.
Его многочисленные любовные похождения порой сводили композитора с весьма примечательными особами: например, Мари д'Агу, которая отзывалась о себе как о «двадцати футах лавы, покрытых шестью дюймами снега»; с светской львицей Марией фон Муханофф — Гейне называл ее «пантеоном, в котором нашли свое упокоение многие славные мужи»; с принцессой-курильщицей Кэролайн фон Сайн-Витгенштейн; с графиней Ольгой Яниной, которая в припадке ревности угрожала Листу револьвером и отравленным кинжалом, а затем разослала нелицеприятные письма о нем всем самым влиятельным знакомым композитора, включая великого герцога Веймарского и папу римского. Безрассудство в амурных делах приводило к последствиям и иного рода — дружба композитора с Фредериком Шопеном, когда-то признававшимся, что «дорого бы отдал за то, чтобы научиться играть свои собственные [шопеновские] этюды так, как это делает Лист», дала трещину после того, как Лист назначил свидание дочери фортепианных дел мастера Мари Плейель прямо у Шопена в квартире.
Впрочем, Лист был не только бонвиваном, но и человеком с постоянными интеллектуальными и духовными исканиями. Его музыкальные эксперименты повлияли практически на всех знаменитых композиторов последующих времен. Необычные, радикальные гармонии его поздней композиции «Серые облака», а также прозрачные струи звука в «Фонтанах виллы д’Эсте» предвосхитили импрессионизм. В то же время его исполнительская энергетика завораживала других композиторов и пианистов эпохи романтизма, таких как Шарль Валантен Алькан или Антон Рубинштейн. А его мелодические пьесы проложили путь таким композиторам, как, например, его зять Рихард Вагнер.
С ранних лет Лист испытывал большой интерес к религии, что в какой-то момент привело его в секту сенсимонистов, провозглашавшую социальное равенство, половое равноправие и справедливое распределение материальных благ. В 1865 году композитор даже был произведен в невысокий духовный сан, и, хотя историк Фердинанд Грегоровиус, встретивший его в Риме, описал Листа как «Мефистофеля, переодетого аббатом», на самом деле тот был известен своей добротой. Так, Лист обладал уникальной способностью прощать окружающим их прегрешения. К примеру, по поводу вспыльчивости и непредсказуемости Рихарда Вагнера он писал принцессе Каролине: «К сожалению, это неизлечимая болезнь, поэтому мы должны просто любить его таким, какой он есть, и обращаться с ним настолько хорошо, насколько это возможно». Фортепианные аранжировки бетховеновских симфоний, вагнеровских опер, шубертовских песен, а также музыки Сен-Санса, Берлиоза, Шопена и других композиторов Лист создавал во многом для того, чтобы обеспечить его любимым произведениям более широкий резонанс. Эта альтруистическая, чуткая сторона его характера находила отражение и в его собственных работах — например, в лирических фортепианных пьесах, таких как «Грезы любви» или «Утешение», в которых пышные музыкальные фразы жемчужинами сверкают на фоне бархатных гармоний. Да-да, когда Лист не метал громы и молнии, он был способен и на такое. И эти его композиции вполне могли разбивать сердца.
Часть 2. Продолжаем метать громы и молнии
Традиция горячих голов продолжала жить и после Листа в произведениях таких композиторов, как венгры Бела Барток (1881—1945) и Золтан Кодай (1882—1967). Оба они вдохновлялись народной музыкой, развивавшейся вне сковывающих рамок «высокой» культуры, коллекционировали венские, румынские, болгарские и словацкие крестьянские песни и на их основе писали музыку, полную колючих гармоний и нестандартных ритмических рисунков. Многим слушателям казалось, что это уже чересчур. В 1915 году в июльском выпуске Musical Quarterly Фредерик Кордер написал, что композиции Бартока звучат так, будто «композитор просто ходит по клавиатуре в сапогах». Знаменитый Перси А. Скоулз[30] в своей колонке для лондонского The Observer в мае 1923-го признался, что музыка Бартока «принесла ему больше страданий, чем что-либо еще… разве что за вычетом походов к дантисту». Но прошли годы, и к середине века, особенно после смерти композитора, его произведения вошли в золотой фонд европейской музыки.