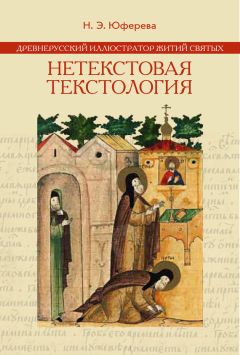Стюарт Исакофф - Громкая история фортепиано. От Моцарта до современного джаза со всеми остановками
Со своей стороны эту атмосферу мелодраматического ужаса подпитывали живописцы вроде Иоганна Генриха Фюсли — такими картинами, как «Ночной кошмар» или «Всадник, на которого нападает гигантская змея». А Карл Филипп Эммануил Бах привнес сходное ощущение тревоги и непокоя в музыку, словно отсканировав с высоким разрешением человеческие переживания во всей их переменчивости и интенсивности. Он даже настаивал, что музыканты должны сами по возможности испытывать как можно больше сильных эмоций, чтобы как можно более точно транслировать их слушателям.
Йозеф Гайдн
Композитор Франц Йозеф Гайдн (1732—1809), друг Моцарт и учитель Бетховена, принял это к сведению и в конечном счете выработал собственный вариант живописного стиля — его произведения были полны причуд и необычных диковин; эдакая манифестация внезапного. Моцарт говорил, что Гайдн — самый потрясающий композитор на свете, но это было до появления Бетховена.
* * *
Несмотря на недостаток мелодий, которые можно было бы напевать, бетховенские сонаты по-прежнему мгновенно цепляют слушателя и даже не думают отпускать. Во многом это связано с гениальным использованием самых элементарных материалов. Крошечные даже не мелодии, а фрагменты мелодий, которые исчезают и вновь появляются по несколько раз на протяжении пьесы в самых разнообразных вариациях, становятся основными структурными элементами уже самой первой сонаты Бетховена (ор. 2 nо. 1). Она стартует с взмывающей ввысь музыкальной фигуры (в те времена она называлась «маннгеймской ракетой»), которая затем повторяется много раз в укороченном или фрагментированном виде, причем с каждой новой репризой тема играется все более энергично и в конце концов превращается в единственный взрывной аккорд, который наконец и вспарывает ткань композиции, словно тонкое перышко, протыкающее воздушный шарик.
Начало сонаты Бетховена (ор. 2). Тема постепенно сокращается и наконец сводится к одному-единственному аккорду
Саму мысль обращаться с музыкальными темами подобным образом Бетховен, по-видимому, почерпнул у Гайдна (хотя сам и бросил как-то, что у Гайдна ничему научиться невозможно, тем не менее его собственная музыка опровергает данное утверждение). Он никогда не терял интереса к этому методу организации музыкального произведения, а равно и к эстетическому принципу, провозглашенному поэтом Фридрихом Шиллером (чью «Оду к радости» впоследствии даже ввел в финал своей Девятой симфонии). Согласно Шиллеру, противоположности должны сталкиваться, частично взаимоуничтожаться, и тогда на их обломках вырастет новое прекрасное целое. Звуковые конструкции Бетховена зачастую обыгрывали этот философский тезис. Когда его биограф Антон Шиндлер — человек, по выражению одного знаменитого дирижера, «такой же худой, как его фигура, и такой же сухой, как его черты лица» — попросил композитора рассказать о двух его фортепианных произведениях, тот ответил, что они написаны как своего рода «соревнование двух разных принципов или диалог двух разных людей». Поэтому в произведениях Бетховена была своя неоспоримая логика, но любой устоявшийся канон он норовил сотрясти до основания, заставляя его элементы по-новому взаимодействовать (порой сталкиваясь друг с другом), без стеснения стирал границы между зачином и кодой. В любом случае на выходе, как правило, получалась музыка необыкновенной красоты. Композиции Бетховена, с одной стороны, совершенно органичны, а с другой — глубоко неуравновешенны, они пылают злостью и лучатся нежностью, одновременно и притягивают, и отталкивают.
Пожалуй, гений Бетховена заключается именно в этом умении из совершенно обычного материала делать нечто поистине впечатляющее. Композитор и издатель Антон Диабелли как-то раз послал свою ничем не выдающуюся тему в размере вальса всем композиторам, которые пришли ему на ум (включая Шуберта и юного Листа), с просьбой написать на нее вариацию. В ответ он получил пятьдесят утвердительных ответов. Бетховен же поначалу отказался (назвав оригинальный вальс «сапожной заплаткой»), но потом написал самостоятельное произведение «Тридцать три вариации на тему Диабелли». По словам пианиста Альфреда Бренделя, композитор взял невыразительный исходник Диабелли и «спародировал, высмеял, подавил, оплакал, улучшил, преобразил и возвысил его». От смешного до великого, как это обычно у Бетховена и бывало.
В своем романе «Контрапункт» Олдос Хаксли размышлял, как писатель может воспользоваться бетховенскими методами: «Продумать Бетховена. Перемены настроений, резкие переходы… Еще интересней модуляции, переходы не из одной тональности в другую, а из одного настроения в другое. Тему формулируют, затем развивают, изменяют ее форму, незаметно искажают, и в конце концов она становится совсем другой»[24]. Как сделать это в романе? У Хаксли выходит, что «резкие переходы сделать нетрудно. Нужно только достаточно много действующих лиц и контрапункт параллельных сюжетов. Пока Джонс убивает жену, Смит катает ребенка в колясочке по саду. Только чередовать темы».
На самом деле все далеко не так просто. Воображение Бетховена порождало такие сложные композиции, что, по мнению пианиста и знатока Чарльза Розена, именно это в конечном счете привело к тому, что центром фортепианной жизни стала не частная гостиная, а большой концертный зал. Однажды Карл Черни рассказал Бетховену, что в Вене живет дама, «которая уже месяц бьется над его сонатой ре-бемоль — и до сих пор не продвинулась дальше самого начала». Ничего удивительного: даже популярные бетховенские работы, такие как Лунная соната, требуют высочайшего уровня технической подготовки. А в его истинных шедеврах (среди них та самая ре-бемольная соната (ор. 106), также известная как «Хаммерклавир», — настоящая пытка даже для профессионалов) само искусство фортепианной музыки доведено до полного технического и эмоционального совершенства.
По сей день потомками с восхищением воспринимаются произведения Бетховена, в которых отразилась вся его жизнь, полная поисков и метаний. «Его музыка, — писал Гофман, — движет рычагами страха, трепета, ужаса, скорби и пробуждает именно то бесконечное томление, в котором заключается сущность романтизма»[25]. Однажды вечером 1837 года, спустя десять лет после смерти Бетховена, небольшая группа друзей-музыкантов собралась в салоне писателя Эрнеста Легуве. Ференц Лист сел за рояль, и комната, до сей поры освещенная одной свечой, внезапно погрузилась в полный мрак. «Случайно ли или повинуясь какому-то неосознанному порыву, — вспоминал Легуве, — Лист заиграл траурное, абсолютно душераздирающее адажио из сонаты до-диез минор[26]. Все остальные так и остались стоять или сидеть там, где их застиг этот момент, никто не мог пошевелиться… Я медленно опустился в кресло и где-то над головой услышал подавленные стоны и всхлипы. Это был Берлиоз».
* * *
Если традиционный образ Бетховена — человек, грозящий кулаком небесам, то образ Ференца Листа (1811—1886), еще одной композиторской горячей головы, — это, конечно, античный бог, спустившийся на землю. Он и выглядел соответствующе. Ганс Христиан Андерсен называл Листа «современным Орфеем… Когда он входил в салон, по помещению словно бы пробегал электрический разряд; почти все дамы поднимались на ноги, и луч света осенял их лица».
Свидетели описывают Листа как человека высокого, худого и бледного. Одна из его возлюбленных, Мари д’Агу, была поражена его «огромными глазами цвета морской волны, в которых то и дело загорались искры света, словно солнечные блики на воде». «Свои идеальные прямые волосы он отпускал до плеч, а то и ниже», — писал Чарльз Халле. Порой это производило забавное впечатление, ибо «когда он оживлялся и начинал жестикулировать, волосы падали прямо ему на лицо, так что не оставалось видно ничего, кроме носа». Такое случалось сплошь и рядом, поскольку, продолжал Халле, «этот необычный человек все время находится в движении — то переминается с ноги на ногу, то воздевает руки к небесам, — то одно то другое».
Его поклонники приходили от этого в восторг, равно как и от музыки, которую он играл. Каролина Буасье, мать Валери, юной швейцарской ученицы Листа, была свидетельницей уроков, которые тот давал ее дочери: «Сказать, что его пальцы метают громы и молнии, сказать, что от его agitati захватывает дух и что эти бурные, страстные пассажи сменяются моментами нежной изящной меланхолии, а затем мотивами бравурными, но благородными, смелыми, но величественными, — сказать все это значит ничего не сказать, потому что, пока вы его не слышали, вы и представить себе не можете, на что похожа его игра… Слушая его, вы слышите не фортепиано, а грохот бури, молитвенные песнопения, триумфальные возгласы, сшибающие с ног порывы счастья и надрывающую сердце грусть». Это кажется патетическим преувеличением, но лучшие музыканты из числа современников Листа вряд ли стали бы спорить.