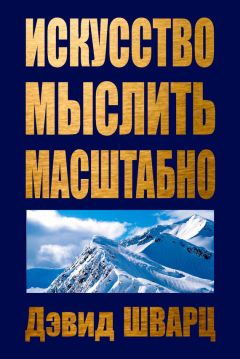Ив Бонфуа - Невероятное (избранные эссе)
Поэзия движется в пространстве речи, но точность каждого ее шага может быть проверена в том мире, который ею заново утверждается.
Она превращает окончательное в возможное, воспоминание — в ожидание, пустынное пространство — в прокладываемую дорогу, в надежду. И я бы мог назвать ее посвятительным реализмом, если бы стихи, когда они уже созданы, и вправду, как акт инициации, отдавали нам во владение реальность. Но что ответить на этот вопрос, который, впрочем, был мною поставлен всамом начале? Пожалуй, вот что: эти стихи сделались пашей судьбой. Ведь тем временем мы постарели. Действие, которым стало наше слово, свершилось в том же «емком времени, что и все другие наши поступки. Оно дало нам, отважившимся написать стихотворение и испытать противоречия изгнания, именно такую жизнь, а не какую-либо иную. Что же в действительности мы обрели, если так и не достигли места истины?
Я думаю о поэте самой светлой надежды и самой живой боли{87}. О наиболее таинственном из тех французских поэтов XIX века, что образовали как бы четырехугольник, внутри которого, претерпевая бесчисленные преломления, теряется, но и вновь находит себя мысль любого из нас Настоящее воплощение поэзии, он весь растворился в безысходной любви, любви к смертному существу. Но его желание не перестало быть желанием, его жажда высшей жизненной полноты сохранила в себе и чувство невозможности ее достигнуть: потому что он честен сердцем. Я называю это соединение трезвости и надежды меланхолией. И ничто в мире Справедливости — ни правда, ни красота — не похоже на благодать в большей степени, чем эта пламенная меланхолия. Она остается тем приношением, на которое всегда способен истинный поэт. И эта способность, как бы поэт ни был нищ, всегда будет для него благом.
Поэзия долго не хотела покидать дом Идей, но, как уже сказано, она была изгнана из него, она из него бежала, «испуская крики боли»{88}. Современная поэзия отделена от своего возможного жилища большим расстоянием. Доступ в просторный зал с четырьмя окнами{89} ей навеки заказан; успокоенность стихотворной формы неприемлема, если только не лгать. Но возможность, открывшаяся для будущих поэтов, их, что бы там ни говорили, счастье (теперь я вправе это утверждать) состоит в том, что поэзия, так долго пребывавшая в изгнании, теперь близка к пониманию средств, позволяющих раскрывать присутствие мира. После долгих лег страха. Но разве это было так трудно? Не достаточно ли было заметить на склоне горы окно, отражающее лучи закатного солнца?
Благодарение[7]{90}
Крапиве и камню.
Урокам «суровых математик»{91}. Скудному вагонному свету, из вечера в вечер. Заснеженным улицам под вездесущей звездой.
Я шел, я плутал. Слова едва находили путь в отчаянной немоте. — Благодарность словам, избавителям и терпеливцам.
II«Богоматери сумерек»{92}. Гигантской скрижали камня над райскими берегами. Следам — и вместе, и потом, врозь.
Зиме по ту сторону Арно. Снегу и несчетным следам. Капелле Бранкаччи, когда стемнеет.
IIIКапеллам на островах.
Галле Плацидии. Узким простенкам по мерке наших теней. Статуям в гуще травы; их лицам, наверно, таким же стертым, как у меня.
Двери, заложенной кирпичом цвета крови, на твоем сером фасаде, вальядолидский собор. Гигантским кругам из камня. Пасо, заваленному мертвой, черной землей.
Церкви Святой Марфы в городке Алье{93}. Ее красный кирпич поблек, излучая восторг барокко. Пустому, запертому дворцу в окруженье одних деревьев.
(Всем дворцам земли, радушно встречающим ночь)
Моему жилищу в Урбино — между числом и ночью.
Церкви Святого Ива Премудрого{94}.
Дельфам, где легко умирать.
Городу воздушных змеев и стеклянных громад, в которые смотрится небо.
Мастерам школы Римини. Я выбрал историю искусств, чтобы коснуться вашего великолепья. Я упразднил бы историю искусств, чтобы не тронуть вашего совершенства.
IVВечная благодарность ночным набережным, пабам, голосу, говорящему: «Я светильник, Я и масло к нему».
Этому голосу, выжженному пламенем сути. Сизой кленовой коре. Танцу, который длится. Двум этим безвестным комнаткам, где бога езде живут между нами.
Из книги «Сон, приснившийся в Мантуе»
Византия[8]{95}
Я думаю о наивном образе Византии, грезившемся «концу века». Он напоминает поддельный драгоценный камень — или, во всяком случае, потускневший из-за слишком массивной золотой оправы, в которую его вставили. В этом образе я вижу не столько абсолютное, сколько идеальное, не столько благородство, сколько аристократизм — и, что всего хуже, гибельную неподвижность, похожую на оцепенение человеческого сердца, которое, отвергнув земные радости и муки, укрылось от реальности и замкнулось в безвольном ожидании смерти, пусть и претерпевая, как нечто непостижимое и роковое, натиск живых чувств. В те времена утверждение Прекрасного уже нельзя было отличить от ненависти к жизни. Оберегая себя, душа затворилась в прекрасных покоях и наполнила их избранными предметами, но поскольку она основывала свой выбор только на формах и не любила ничего от их воплощения в земном времени, эти формы, предоставленные самим себе, расцвели поистине дьявольским цветом. — Было ли в исторической Византии хоть что-то, оправдывающее это благообразное извращение? Не должны ли мы, напротив, вслед за Йейтсом{96}, увидеть в ней место, где наше сердце может вновь найти себя, может петь, хотя из него рвется стон, — где оно вновь научится радоваться? Впрочем, Йейтс поместил это средоточие своих пристрастий в какой-то далекий кран, не имеющий ничего общего с реальной жизнью, которой он отводил лишь право на периоды блистательного, но краткого токования; он противопоставлял живой, недолговечной птице автомат из золота и самоцветов, символизирующий обособленное царство искусства.
Я не думаю, что искусство может, не изменяя себе, удовлетвориться ролью подобного убежища. Впрочем, и я отдаю Византии должное, чувствуя в глубине души — без сомненья, как многие мои современники, — что ее зов не смолкал никогда. Но всегда ли в нем звучало одно и то же слово? Что касается меня, то в этом зове — смутном, уловленном на еще не вполне прояснившихся границах этой страны, еще не вполне, со всеми его тончайшими переливами, расслышанном — я различил не Феодору, блещущую золотом, но лежащую в руинах Мистру, не павлина, но камень. И тут же связал его с желанием, жившим во мне и давно искавшим свою родину, желанием как можно теснее приблизиться к самым мимолетным и, на первый взгляд, не самым важным явлениям, в которых открывает себя наш мир, — чтобы возвести их в высшее достоинство и вместе с ними спасти самого себя. Действительно, каждый раз, когда я слышал птицу, певшую в бесконечно далеком от меня лесу, когда я стоял над горной котловиной, переполненной моим отсутствием, когда ограниченное и смертное «здесь» просило меня сломать печать отторгнутости от бытия, наложенную на него нашим временем, во всем этом, казалось мне, — с тех пор как я узнал название города образов, — я угадывал излучение Византии. И, как всегда, это было прикосновением к вечности: главная нота Византии, звучавшая во все времена, дрожала в воздухе и теперь. Но эта вечность уже не выглядела отрицанием чувственного мира, того распыления сущностей, в которое мы погружены, она пылала в земных деревьях, ее надо было черпать из глубины этого мира, потому что она оказывалась, против всех ожиданий, самим его веществом, его сияющей, нетленной плотью. Всеми видами саморастраты, и прежде всего — путешествием. Как только корабль выходит из гавани в ночное плавание, впереди, словно далекий берег, вспыхивает блеск невидимой Византии. Я полюбил называть этим словом все, у чего нет названия: непостижимость вещей, опасные ситуации, руины, города, возникающие на горизонте, вспаханные поля. Не обманывал ли я себя? Но мне встречались и такие места, где можно было почти без помех расслышать голос, выделявшийся из множества других голосов, которые доносятся к нам от исторической Византии, и, я думаю, подтверждавший мою правоту. Мне вспоминается Торчелло, некоторые греческие церкви, их стены и фрески, залитые солнцем. И Спаситель из Сопочан{97}.
Сопочаны! По-моему, нет ничего более совершенного, чем эта церковь в горах. И я хочу, чтобы на этих страницах она предстала входом в ту страну истины, образ которой я пытаюсь создать.
Уже долины на подступах к Сопочанам, залитые какими-то бесцветными лучами, похожи на митрополию, которая рисуется в воображении. Сербские горы все проясняют своим строгим светом. Дух праздного созерцания в этом краю сразу же улетучивается; кажется, сама природа здесь восходит к собственному гребню и внезапно скрывается за ним: безмолвные ущелья, горные реки, неприметные люди, черные дороги — все это разом исчезает, словно тающее в небе пламя. Местные монастыри обнесены широкими кругами каменных стен, и это тоже уподобляет их небесам. Внутри этих оград, где стоит одна, иногда две ветшающие церкви, и откуда во всю свою ширь открывается плещущий горизонт, важно ходят по бурой земле синие красавцы-павлины.