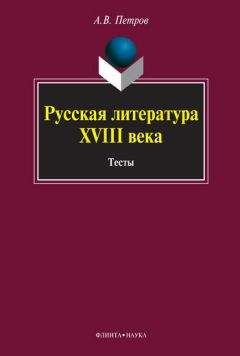Н Лейдерман - Современная русская литература - 1950-1990-е годы (Том 2, 1968-1990)
Анна Андриановна неуклонно и часто неосознанно стремится доминировать - это единственная форма ее самореализации. Но самое парадоксальное состоит в том, что именно власть она понимает как любовь. В этом смысле Анна Андриановна воплощает своеобразный "домашний тоталитаризм" - исторические модели которого отпечаталась на уровне подсознания, рефлекса, инстинкта*367. Способность причинять боль служит доказательством материнской власти, а следовательно - любви. Вот почему она деспотически пытается подчинить своих детей себе, ревнуя дочь к ее мужчинам, сына к его женщинам, а внука к его матери. В этой любви нежное "маленький мой" тянет за собой грубое: "сволочь неотвязная". Любовь матери у Петрушевской монологична по своей природе. За все жизненные потери и неудачи мать требует себе компенсации любовью - иначе говоря, признанием ее безусловной власти. И естественно, она оскорбляется, ненавидит, лютует, когда свою энергию любви дети отдают не ей, а другим. Любовь в таком понимании становится чем-то ужасно материалистичным, чем-то вроде денежного долга, который обязательно надо получить обратно, и лучше - с процентами. "О ненависть тещи, ты ревность и ничто другое, моя мать сама хотела быть объектом любви своей дочери, т. е. меня, чтобы я только ее любила, объектом любви и доверия, это мать хотела быть всей семьей для меня. Заменить собою все, и я видела такие женские семьи, мать, дочь и маленький ребенок, полноценная семья! Жуть и кошмар", - так Анна Андриановна описывает свои собственные отношения с матерью, не замечая, что и ее отношения с дочерью полностью укладываются в эту модель.
Однако несмотря на "жуть и кошмар", любовь Анны Андриановны не перестает быть великой и бессмертной. Собственно говоря, это попытка жить ответственностью, и только ею. Эта попытка иной раз выглядит чудовищно вроде шумных замечаний незнакомому человеку в автобусе, который, на взгляд Анны Андриановны, слишком пылко ласкает свою дочь: "И опять я спасла ребенка! Я все время всех спасаю! Я одна во всем городе в нашем микрорайоне слушаю по ночам, не закричит ли кто!". Но одно не отменяет другое: противоположные оценки здесь совмещены воедино. Парадоксальная двойственность оценки воплощена и в структуре повести.
"Память жанра", просвечивающая сквозь "записки на краю стола", - это идиллия. Но если у Соколова в "Палисандрии" жанровый архетип идиллии становится основой метапародии, то у Петрушевской идиллические мотивы возникают вполне серьезно, как скрытый, повторяющийся ритм, лежащий в основе семейного распада и перманентного скандала. Так, "конкретный пространственный уголок, где жили отцы, будут жить дети и внуки" (Бахтин), идиллический символ бесконечности и целостности бытия, у Петрушевской воплощен в хронотопе типовой двухкомнатной квартиры. Здесь смысл "вековой прикрепленности к жизни" приобретает все - от невозможности уединиться нигде и никогда, кроме как ночью, на кухне ("дочь моя. . . на кухне будет праздновать одиночество, как всегда я ночами. Мне тут нет места!") вплоть до продавленности на диванчике (". . . пришла моя очередь сидеть на диванчике с норочкой").
Более того, у Петрушевской бабушка - мать - дочь повторяют друг друга "дословно", ступают след в след, совпадая даже в мелочах. Анна ревнует и мучает свою дочь Алену, точно так же, как ее мать Сима ревновала и мучила ее. "Разврат" (с точки зрения Анны) Алены полностью аналогичен приключениям Анны в ее младые годы. Даже душевная близость ребенка с бабушкой, а не с матерью, уже была - у Алены с Симой, как теперь у Тимы с Анной. Даже претензии матери по поводу якобы "чрезмерного" аппетита зятя повторяются из поколения в поколение: ". . . бабушка укоряла моего мужа в открытую, "все сжирает у детей" и т. д"*368. Даже ревность Алены к брату Андрею отзывается в неприязни шестилетнего Тимы к годовалой Катеньке. Даже кричат все одинаково: ". . . неся разинутую пасть. . . на вдохе: и. . . Аааа!"). Эту повторяемость замечают и сами персонажи повести, ". . . какие еще старые, старые песни", - вздыхает Анна Андриановвна. Но удивительно, никто и не пытается извлечь хоть каких-то уроков из уже совершенных ошибок, все повторяется заново, без каких бы то ни было попыток выйти за пределы мучительного круга. Можно объяснить это слепотой героев или бременем социальных обстоятельств. Идиллический архетип нацеливает на иную логику: "Единство места поколений ослабляет и смягчает все временные грани между индивидуальными жизнями и между различными фазами одной и той же жизни. Единство места сближает и сливает колыбель и могилу. . . детство и старость. . . Это определяемое единством места смягчение всех граней времени содействует и созданию характерной для идиллии циклической ритмичности времени" (Бахтин)*369.
В соответствии с этой логикой перед нами не три персонажа, а один: единый женский персонаж в разных возрастных стадиях - от колыбели до могилы. Извлечение опыта здесь невозможно, потому что в принципе невозможна дистанция между персонажами - они плавно перетекают друг в друга, принадлежа не себе, а этому циклическому потоку времени, несущему для них только утраты, только разрушения, только потери. Причем Петрушевская подчеркивает телесный характер этого единства поколений. Колыбель - это "запахи мыла, флоксов, глаженых пеленок". Могила - "наше говно и пропахшие мочой одежды". Это телесное единство выражается и в признаниях противоположного свойства. С одной стороны: "Я плотски люблю его, страстно", - это боабушка о внуке. А с другой стороны: "Андрей ел мою селедку, мою картошку, мой черный хлеб, пил мой чай, придя из колонгии, опять, как раньше, ел мой мозг и пил мою кровь, весь слепленный из моей пищи. . . " - это мать о сыне. Идиллический архетип в такой интерпретации лишен традиционной идиллической семантики. Перед нами антиидиллия, сохраняющая тем не менее стрвуктурный каркас старого жанра.
Сигналы повторяемости в жизни поколений, складывающиеся в этот каркас, образуют центральный парадокс "Времени ночь" и всей прозы Петрушевской в целом: то, что кажется саморазрушением семьи, оказывается повторяемой, цикличной, формой ее устойчивого существования. Порядком - иными словами: алогичным, "кривым" ("кривая семья", - говорит Алена), но порядком. Петрушевская сознательно размывает приметы времени, истории, социума - этот порядок, в сущности, вневременной, т. е. вечный.
Именно поэтому смерть центральной героини неизбежно наступает в тот момент, когда Анна выпадает из цепи зависимых отношений: когда она обнаруживает, что Алена ушла со всеми тремя внуками от нее, и следовательно, ей больше не о ком заботиться. Она умирает от утраты обременительной зависимости от своих детей и внуков, несущей единственный осязаемый смысл ее ужасного существования. Причем, как и в любой "хаотической" системе, в семейной антиидиллии присутствует механизм обратной связи. Дочь, ненавидящая (и не без причины) мать на протяжении всей повести, после ее смерти - как следует из эпиграфа - пытается опубликовать записки матери. Всегда называвшая мать графоманкой, она теперь придает этим запискам несколько иное значение. Этот, в общем-то тривиальный литературный жест в повести Петрушевской наполняется особым смыслом - в нем и примирение между поколениями, и признание надличного порядка, объединяющего мать и дочь. Сами "Записки" приобретают смысл формулы этого порядка, именно в силу его надличностного характера, требующего выхода за пределы семейного архива.
***
По сути Петрушевскую все время занимает лишь одно - перипетии изначальных природных зависимостей в сегодняшней жизни. Это ее версия вечности. В ее прозе вполне нормально звучат мотивировки, допустим, такого рода: "Собственно говоря, это была у Лены и Иванова та самая бессмертная любовь, которая будучи неутоленной, на самом деле является просто неутоленным несбывшимся желанием продолжения рода. . . " ("Бессмертная любовь"). Если же уточнить, что входит у Петрушевской в мифологическое понимание природы, то придется признать, что природа в ее поэтике всегда включена в эсхатологический контекст. Порог между жизнью и смертью - вот самая устойчивая площадка ее прозы. Ее главные коллизии - рождение ребенка и смерть человека, данные, как правило, в нераздельной слитности. Даже рисуя совершенно проходную ситуацию, Петрушевская, во-первых, все равно делает ее пороговой, а во-вторых, неизбежно помещает ее в масштабы космоса.
В сборниках своей прозы, в собрании сочинений (1996) Петрушевская всегда выделяет раздел под названием "Реквиемы", в который входят такие рассказы, как "Я люблю тебя", "Еврейка Верочка", "Дама с собаками", "Кто ответит" и др. Но соотнесение с небытием конструктивно важно для многих других ее рассказов, в этот раздел обычно не включаемых, - особенно показательны маленькие антиутопии Петрушевской "Новые Робинзоны" и "Гигиена", в подробном бытовом изображении материализующие мифологему конца света. А в фантастических рассказах Петрушевской то и дело внимание концентрируется на посмертном существовании и мистических переходах из одного "царства" в другое, а также на взаимном притяжении этих двух царств (см. "Бог Посейдон", "Два царства", "Луны", "Рука").