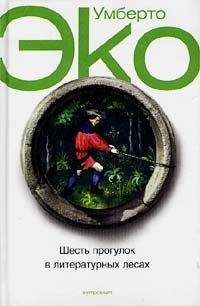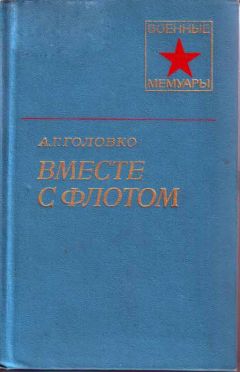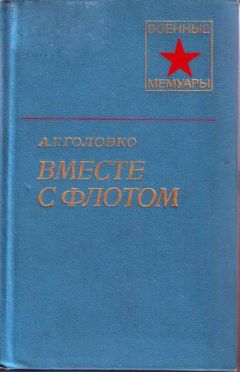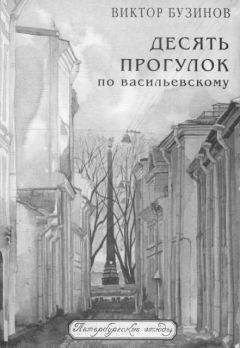Т Чернышева - Природа фантастики
Литературные же игры в фантастике всегда незаметно перерастают или в сатиру, или в философское иносказание, и повествование сказочного типа в искусстве "взрослых" народов смыкается с прямой вторичной художественной условностью, с литературным приемом. Не случайно, говоря о вторичной художественной условности, мы вынуждены были брать примеры из литературной сказки (Ш. Перро, Е. Шварц). Ведь литературная сказка, в отличие от фольклорной, склонна к прямому морализированию, а это неизбежно ставит фантастику литературной сказки на грань иносказания, условного приема.
Мы подозреваем, что вторичная художественная условность вообще является тем океаном, той "морской гладью", в которую в конечном итоге вливаются все фантастические реки. Во всяком случае, повествование сказочного типа явно обнаруживает тенденцию влиться в этот океан и затеряться в нем. Все это и порождает те трудности и противоречия при классификации фантастики, о которых речь шла во введении.
Граница между фантастикой, являющейся частью вторичной художественной условности и, как правило, сводимой к художественному приему, и фантастикой сказочного типа повествования очень непрочна, размыта. Главным ориентиром здесь служит самоценность фантастики в сказочном типе повествования. Но, с другой стороны, фантастический образ, даже откровенно выполняющий роль художественного приема, остается целиком в границах вторичной художественной условности, не заявляет права на содержание только до тех пор, пока он не получает какой-либо образной конкретизации, не обрастает материальной "плотью". Таков, по свидетельству И. Неупокоевой52, образ Демогоргена в "Освобожденном Прометее" Шелли. И. Неупокоева называет его образом-понятием. Но как только подобный образ обрастает материальной плотью, как только образная конкретизация переступает некую невидимую грань, так образ тут же обретает самоценность.
Великанья сущность героев Ф. Рабле, разумеется, символична и вполне поддается словесно-логической расшифровке, поскольку в них воплощена столь важная для Возрождения мысль о величии человека. Однако великаны Ф. Рабле настолько материальны, что эта их "плоть" невольно становится частью содержания, она претендует на самостоятельную, самоценную художественную жизнь, не ограниченную только воплощением нравственно-философской идеи или концепции. Не случайно Ю. Кагарлицкий в своей книге относит роман Ф. Рабле, при всей его явной символичности, к содержательной фантастике, к фантастике как особой отрасли литературы. Одним словом, и здесь практически не встретишь явление в "чистом" виде.
Сложность состоит еще и в том, что использование фантастического образа в произведении зачастую не ограничивается единственной его ролью, что в одном и том же произведении он одновременно выполняет и "формально-стилевую" и "содержательную" функции. Он и самоценен, и иносказателен в одно и то же время.
Так, в романе С. Лема "Солярис" образ мыслящего океана является, вне сомнения, самоценным и содержательным, он значим сам по себе, вне каких-либо иносказаний, так как воплощает гипотезу автора, и в этом плане образ планеты Солярис может быть воспринят как некий внутренний центр произведения. Тем более, что и сам писатель в предисловии подтверждает это читательское ощущение, говоря, что целью автора было показать возможную встречу человека в космосе с Неведомым.
Но тот же роман может быть воспринят и в ином аспекте - как изображение сложности человеческой психологии, как произведение о нравственной ответственности человека, так как за жизнь свою даже неплохой человек, не мерзавец и не преступник накапливает на своей совести немало темных пятен или невольной вины. Солярис помогает выявиться этой вине, поскольку материализует тайные, глубоко запрятанные даже от самих себя мысли обитателей станции, превращает их воспоминания или скрытые желания в живых существ.
В комплексе этих проблем образ океана будет играть роль своеобразного индикатора и восприниматься он может как литературный прием, как художественная условность. И ни один из аспектов проблематики романа не исключает другой, они образуют единую систему, а фантастический образ оказывается многофункциональным. И "Солярис" не является каким-то исключением. То же можно сказать и о "Машине времени", "Человеке-невидимке", "Острове доктора Моро" Г. Уэллса, о "Гиперболоиде инженера Гарина" А. Толстого, о сотнях произведений современной фантастики.
Итак, фантастика многолика, и в искусстве она играет самые различные роли. Но одновременно она и едина, потому что подчиняется общему для всех ее разновидностей закону образотворчества. Ведь о чем бы она ни повествовала, какие бы причудливые образы и с какой бы целью ни создавала, в основании всех ее созданий лежит общий механизм - тот принцип обобщения знаний о мире, который М. Бахтин назвал "древнейшим типом" образного мышления, "гротескный тип образности (т. е. метод построения образов)"53.
Понятия "фантастика" и "гротеск" явно находятся в тесном родстве. Многие признаки гротеска, выделяемые современными исследователями, обнаруживаются и в фантастике. И принципиальный алогизм, и ощущение странного, "перевернутого" мира, и способность схватывать и выявлять основные противоречия действительности, суть явления - все это исследователи современной фантастики воспринимают как ее видовые признаки, а исследователи гротеска - как характерные его черты (Ю. Манн).
Более того. Исследователь фантастики пишет, что гротеск "нашел широкое применение в фантастике", и считает, что гротеск в XVIII в. "закрепляется как основной метод фантастики"54. А исследователь гротеска воспринимает фантастику и преувеличение, к которым гротеск "широко прибегает", как одно из составляющих гротеска и утверждает, что фантастика "характерна для гротеска"55.
Отношения фантастики и гротеска не так просты, как может показаться. С одной стороны, и в литературе прошлых веков, и в современной можно назвать произведения, для которых определения-характеристики "фантастика" и "гротеск" являются по сути дела взаимозаменяющими, а термины "фантастический образ" и "гротескный образ" оказываются синонимичными. Это относится и к романам Ф. Рабле и Д. Свифта, и к "Истории одного города" М. Е. Салтыкова-Щедрина, и к повести Н. В. Гоголя "Нос". С другой стороны, "Возвращение со звезд" С. Лема или "Туманность Андромеды" И. Ефремова вполне подходят под рубрику "фантастический роман", но гротескным романом их, конечно, не назовешь. В научной фантастике XX в. мир предстает не пересозданным, а как бы продолженным в своих возможностях. В таких произведениях нет как будто ничего, напоминающего гротеск, и может показаться, что пути гротеска и научной фантастики разошлись. Не случайно в подавляющем большинстве работ о современной научной фантастике гротеск даже не упоминается.
И все же у фантастики и гротеска общие корни, единая основа. Отличие фантастики и гротеска, на наш взгляд, состоит прежде всего в том, что для понимания фантастики определяющее значение приобретает гносеологический момент - отношения веры и неверия, для гротеска он оказывается несущественным. Но когда речь идет об эстетической сущности, о роли фантастики и гротеска в искусстве и о психологических их основах, тут их родство несомненно.
Возможно, что для литературного гротеска последних веков, ставшего уже вполне осознанным принципом создания художественных образов, и не являются главными, определяющими те признаки, которые выделил в гротеске Гегель смешение различных областей природы, безмерность в преувеличениях и умножение отдельных органов. Наверное, можно спорить, является ли основой гротеска карикатура, "чрезмерное преувеличение" или "совмещение резких контрастов", или же весь секрет в алогизме, странности и абсурдности самого жизненного материала, избираемого гротеском56. Но, если говорить о "технологии", о первоэлементах гротеска, то Гегель здесь не ошибся: и с фантастикой, и с гротеском непременно связано представление о некоей деформации действительности, о пересоздании ее воображением.
И древние мифы свидетельствуют, что человек мыслил гротескно и "фантастически" задолго до того, как появилось собственно искусство: гротескно было оборотническое сознание, основой которого являлось смешение разных областей природы, гротескно было мышление древнего грека, создавшего чудовищ и великанов (в том числе кентавров и многоруких гекатонхейров), прежде чем мир упорядочился гармонией и родились очеловеченные боги; гротескна была и фантазия древних индусов, придумавших многоруких богов и тысячеголового дракона. Из того же семейства гротескных образов вышли и многоголовый дракон Тифон в греческой мифологии, и библейский Левиафан, и семиглавый змей Лотан в угаритских легендах о Ваале, и трехглавый змей русских сказок.